| |||||||||||
“Фотоувеличение”, Микеланджело Антониони: culture_xxi — LiveJournal
ОТПЕЧАТОК
(пять версий исчезновения господина Т.)
/раздел «Галлюцинации»/
Сказать про “Фотоувеличение” Антониони с его славой “любимого фильма структуралистов” что-либо новое крайне сложно. Разве что ограничиться некоторыми наблюдениями, настолько же субъективными, насколько спонтанными и обрывистыми, от того не менее «структуралистскими».
І
Что, собственно, произошло? Модный фотограф по имени Томас (Девид Хеммингс), оказавшись в далеком районе Лондона, чтоб убить время, поймал объективом пару любовников в парке. На готовых отпечатках его заинтересовала реакция моделей на что-то вне поля зрения. Увеличивая фотографии, всматриваясь в изображение, он наконец выявляет в тени, среди зарослей, стрелка с пистолетом, а после под деревом и жертву – труп мужчины.
После недолгой отлучки, вернувшись в мастерскую, Томас обнаруживает, что все негативы, все фото исчезли. Повторный визит на место инцидента подтверждает: вот мертвец, в дорогом костюме, прямо под деревом. Впрочем, никто не верит фотографу, да и сам он вскоре соглашается, что ничего не видел. Утреннее возвращение в парк — соответствующий результат: ни единого следа, никакого тела.
Более краткое и столь же исчерпывающее изложение сюжета:
это история даже не человека, а нескольких кадров, точнее, одного фото- (хотя, на самом деле, кино-) кадра. Или история человека, превратившегося в кадр. Был ли жив человек в момент превращения, существовал ли он вообще – особого значения не имеет.
Еще короче:
Преступление становится кадром / Кадр становится преступлением
Ненужное вычеркнуть.
С учетом вышесказанного, в сценарии ощущаются излишества (эпизод второй фотосессии и картины уличной жизни вначале, демонстрация пацифистов, отчасти свидание с женщиной из парка в мастерской). В визуальном наполнении та же картина: архитектурно усложненные улицы, мириады деталей, странноватых предметов-виньеток, разнообразнейших фотоизображений образуют подобие перенасыщенного зрительного раствора, в который достаточно вбросить щепоть твердого вещества, чтобы вся субстанция перешла в иное качество, превратившись в кристалл. Таким решающим дополнением является спуск затвора камеры в парке. После того сюжетная и образная составляюшие “Фотоувеличения” начинают работать на кадр с убийством.
Оправданным выглядит финал, когда Томас наблюдает за игрой группы мимов в теннис несуществующим мячом, после чего исчезает сам. Одна только пустота может быть высшей точкой изобразительного переизбытка, стремящегося таким путем упорядочиться.
ІІ
Почему никто не слышал выстрела?
Очевидно, в том не было нужды. Здесь надо не вслушиваться, а всматриваться. Манипулируя свежими снимками, Томас получает не очередной слепок так называемого прошлого, а именно то, что хочет увидеть: завершение лондонской серии уличных фото, слишком, как сам говорит, агрессивной (хотя прямой агрессии там немного).
Зафиксировать лишение кого-либо жизни означает оказаться в нужный момент в нужном месте, что является квинтэссенцией работы фотографа, порогом профессиональной нирваны. Но банальная своевременность уже не для Томаса; к чему регистрировать события, если их можно создавать? Его авторская оптика мощна настолько, что прорывает границу между фото и реальностью, трансформируя последнюю. Риторика технологии оборачивается демиургическим жестом. Однако эта магия бьет по самому автору. Далее следует применить методику анализа фотоискусства, разработанную французским культурологом Роланом Бартом в книге «Camera Lucida».
Итак, punctum /1/(термин Барта) фотографии из парка, воплотившийся во встревоженном взгляде женщины, полностью выворачивается – возвращается, принуждая исчезнуть самого Operator`a /2/ (фотографа).
ІІІ
Punctum — это то, что ранит, мучает, что не всегда поддается истолкованию, и, в любом случае, — операция, что не может быть завершена. Взгляд женщины, запечатленный на фотографии — одна фаза конкретной последовательности событий; он не порождает того “слепого поля”, благодаря которому у образа появляется жизнь, внешняя самому образу/3/, его можно назвать и описать/4/, это типичный фотографический шок/5/, в конце концов этот взгляд служит функциональным маркером, указуюшим на четко оформленный сюжет (убийство), иначе говоря, как мы выяснили, на автора (но какого именно?)
Логика всего эпизода — определенно кинематографическая. Имеем сначала разбитый на несколько стадий-фотоувеличений наезд камеры на событие, далее крупный план со встревоженной женщиной, потом через монтажное соединение — аналогичную работу с телом убитого. Так не скрывается ли под личиной фотоувеличения очередная диверсия киноязыка? Кино, согласно тому же Барту, побуждает к постоянной прожорливости/6/ ; а тут оно — конечно, довольно изысканно — поглощает Фотографию. Так что и Фотограф как осиротевшее означающее (без означаемого) должен исчезнуть.
IV
Убийство обречено остаться нераскрытым: кадр ограничен рамкой, и это непреодолимое обстоятельство; а ответ – за рамкой, ответ – это уже литература.
Вспоминается другая новелла Кортасара под красноречивым названием «Непрерывность парков». Парк – наверно, любимейшая пространственная галлюцинация европейской культуры, обезвреженная проекция архетипического Лабиринта, идеальная среда для хороших преступлений.
Итак (“Фотоувеличение” завораживает безбрежностью интерпретаций), литература. Можно охарактеризовать главного героя как Дона Жуана поневоле: он тяготится успехом у женщин, ему надоел пейзаж Лондона, где он одерживает свои каждодневные победы, его вызов небесам столь же случаен. Он работает глубже, чем его приятель, художник-пуантилист Билл. Билл лишь доделывает картину до смысла. А Томас воплощает сюжет и, соответственно, смысл, управляя чужими судьбами через свои карточки, хотя сам того не желает. Но и режиссер не забыл про собственное творение. И свою власть в последнем кадре употребил, принудив гордеца растаять в воздухе.
V
Или это сделал не Антониони. Аминь.
___________
/1/ “Этот… элемент… я бы обозначил словом punctum, ибо оно значит в числе прочего: укус, дырочка, пятнышко, небольшой разрез, а также бросок игральных костей. Рunctum в фотографии – это тот случай, который на меня нацеливается (но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня).”. .Барт, Ролан. Camera Lucida. Комментарий к фотографии. Москва, “Ad Marginen”, 1997, с. 45.
/2/ Там же, с.19.
/3/ “…как только возникает punctum, создается (угадывается) и слепое поле: благодаря круглому колье одетая по-праздничному обрела для меня жизнь, внешнюю ее портрету; я испытываю желание познакомиться с Бобом Уилсоном, носителем неотгаданного punctum*а”. Там же, с. 86.
/4/ “То, что я могу назвать, не в силах по-настоящему меня уколоть”. Там же, с.80.
/5/ “…фотографический “шок”, ничего общего не имеющий с punctum’ом, заключается не столько в том, чтобы нанести травму, сколько в раскрытии того, что было скрыто столь надежно, что само действующее лицо его игнорировало или хранило в бессознательном”. Там же, с. 53
/6/ Там же, сс. 85-86.
_________
«Фотоувеличение» / Blowup (1966, Италия-Великобритания, 111`) режиссура — Микеланджело Антониони, сценарий: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд (английские диалоги), по рассказу Хулио Кортасара, оператор: Карло Ди Палма, актеры: Ванесса Редгрейв, Сара Майлс, Дэвид Хеммингс, Джон Кестл, Джейн Биркин; производство: “Bridge fims”.
Дмитрий Десятерик
Предыдущие главы:
Предисловие: http://drugoe-kino.livejournal.com/3198853.html
«Европа», Ларс фон Триер: http://drugoe-kino.livejournal.com/3199661.html
«Персона», Ингмар Бергман: http://drugoe-kino.livejournal.com/3201760.html
«Час волка», Ингмар Бергман: http://drugoe-kino.livejournal.com/3202448.html
«Blow-up» Микеланджело Антониони — Журнальный зал
Г р и г о р и й А м е л и н
“BLOW-UP” МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ
[1]
Владелец ателье и модный фотограф Томас (Дэвид Хеммингс) готовит альбом фотографий о Лондоне. Его задача — уловить и выразить лицо современности, зафиксировать жизнь как она есть. У него хороший глаз и уверенные руки. Мы видим, что он снимает старых бродяг и нищих, но без труда догадываемся, что за ними следуют больные, уроды, безумцы, алкоголики, наркоманы, преступники. Дисциплинированно погружаясь на социальное дно и в маргинальные сообщества, фотограф, сочетая в себе легконогую зоркость шага, любопытство и обаятельную настырность подростка, охотится за живым фактом, непосредственным и мгновенным слепком реальности.
Ядро фильма детективно. Собираясь купить небольшую антикварную лавку, Томас приезжает к ней на своем черном роллс-ройсе и, ожидая для решительного разговора на эту тему хозяина (он еще не знает, что это будет милая молодая хозяйка), выходит из машины, начинает фотографировать и течением света и настроения выносится в парк, вход в который аккурат напротив входа в лавку, так сказать — рот в рот. На нем голубая рубашка, белые джинсы, бархатный с зеленым отливом темный пиджак. Ветер, шелестящий в ветвях, приводит в движение все вокруг и щекочет слух, как пузырьки нарзана – нёбо. Щебетанье птиц. Идеальная стрижка газонов. Изумрудно-зеленая трава. Смешная толстуха, в шляпе и мужском костюме, — какой-то утиный клоун, нанизывающий на шпагу брошенные бумажки и с бумажным шашлыком мусора уплывающий дальше.
Все вокруг залито нежным светом и задобрено зеленью. Плавность и трепетность всех линий режут лишь два черных прямоугольника теннисных кортов, огражденных высокой металлической сеткой. Вдали на зеленую шевелюру холма нахлобучена шапка из белых живописных домов. Внимательно оглядывая все пространство, Томас проходит мимо одного из кортов, где двое мальчишек играют в теннис. Стук мячей, голоса птиц и пролистывание ветра. Царственный покой и безмятежность.
Голуби, за которыми он легко и пружинисто гоняется по лугу и снимает. Мужчина и женщина, поднимающиеся по лесистому холму, взявшись за руки. Их смех. Поскользнувшись, они падают, играя друг с другом. Женщина явно уговаривает мужчину следовать за ней на вершину холма. Фотограф волей случая и какого-то бессознательного позыва следует за ними, еще не зная, что в глубине леса они встретятся снова.
Парочка поднимается через заросли, Томас, награжденный неугомонностью вечного детства, — по извивающейся дорожке, уступами поднимающейся по склону холма, подпрыгивая и выделывая коленца. Неспроста, наверное, едва появившись в антикварной лавке, он просит… пейзажей. Один не замедлит явиться. Но такой пейзаж — реализация сущности героя, а сам Томас — явленность и точка зрения пейзажа на самого себя.
Абсолютная тишина. Шелест листьев. Прозрачный шум, будто звуковая кровь, наполняющая холодное тело ландшафта. Беспризорное глиссирование всех форм и очертаний, теряющих устойчивость и непроницаемость границ. Поляна. Блуждающим, вслушивающимся и уже что-то почуявшим взглядом он охватывает все извилистое, вытянутое, оврагообразное место, скорее похожее на пересеченную местность, чем на ровную поляну. Заряженный целой обоймой образов, пейзаж как будто умоляет о том, чтобы его запечатлели, от него так и несет будущими фотографиями. Чревоугодник невидимого, фотограф не снимает, а распознает беременность окружающего мира возможными образами. У него не глаз, а тест-полоска.
Опять та же пара, вытанцовывающаяся из ландшафта. Опять тот же ветер, не знающий преград, — источник вдохновения, стихия подъема и интенциональной одержимости. Ветер, приводящий все в движение и единство, — сквозняк угрозы и мягкое животное почесывание каждой вещи. И что такое этот таинственный шелест листьев, наполняющий парк, как не голос самого молчания фотографии, сотканной из света, взгляда и желания. И шелест явственно повторится потом, когда герой будет изучать парковые снимки в своей студии, но этот студийный шелест — уже с дыханием иного, нездешнего мира и с явным привкусом смерти. Надо иметь в виду, что одно из значений английского blow up, которое сюжетно реализует Антониони, — “начинать дуть; усиливаться (о ветре)”.
Трудно сказать, с какого момента, не отличая сперва мужчину и женщину от птиц и клумб с розами, он, не кроша чувств и не осторожничая с целым, секретировал их и забросил в центр всей пейзажной композиции. А может, это мир, с немыслимой скоростью завертевшись вокруг фотографа, выложил перед ним отдельным номером программы этот странный дуэт. Прячется за изгородь, снимает. Подсматривает, выслеживает взором хищной птицы. Воодушевление искусства и разлив охотничьей страсти столь велики, что он без остановки сыплет щелчками фотоаппаратного затвора, как салонный французский острослов меткими афоризмами. Потом он скажет, что в то субботнее утро был удивительный свет. Солнца нет, тела как будто сами рождают и излучают свет, окуривают светом тени. Пейзаж уже не занят, а обитаем ими. Она тянет своего спутника за руку за собой. В какой-то момент замечает неожиданного соглядатая и, подбежав к нему, с гневом требует уничтожить пленку и даже пытается отнять ее силой. Он ни в какую. Затем, как бы опомнившись, девушка бросается вслед за исчезнувшим спутником. Томас успевает несколько раз ернически щелкнуть ей в спину.
Неспешно вернувшись в антикварную лавку, он за 8 фунтов покупает огромный деревянный пропеллер от аэроплана, вдруг попавшийся ему на глаза среди всякого хлама: “Он мне нужен прямо сейчас, я без него жить не могу!” Жест нелепый и смешной, не предугаданный календарем коммерции и не вытекающий из содержания мизансцены и каких-либо прагматических соображений, и тем более опрометчивый, что, купив всю антикварную лавку, фотограф легко и бесплатно получит и этот пропеллер. Но это тот случай, когда ждать нет никаких сил. Импульсивное движение, не ведающее о привычной схеме “мотив — действие — цель”, как будто идет от кого-то другого, против ожидания и воли самого Томаса. И тем не менее он сам его благословил и исполнил. Как понять поступок сумасбродного юнца, который определяется, с одной стороны, в ряду фактов, обусловленных другими фактами внешнего мира, а с другой — спонтанностью, определяющейся в бытии и относящейся только к себе самой?
В Кенсингтоне — районе, находящемся в западной части центрального Лондона, на черном гараже его мастерской огромные цифры астрономической масти: 39. Девушка из парка (Ванесса Редгрейв) неизвестно как узнает адрес ателье и является туда. Каштановые волосы, черная шейная косынка, клетчатая блузка. Ее зовут Джейн, но, как и Томас, она ни разу в фильме не называется по имени (о фамилиях в “Blow-up” можно только мечтать). Она умоляет героя отдать ей пленку и даже пытается соблазнить его — безуспешно, фотограф, похожий на сухой колос дикого ячменя, неумолим. Наигравшись и накокетничавшись с ней досыта, Томас обманывает ее, вручая другую катушку, с другой пленкой, она готова заняться с ним любовью уже как будто добровольно, но в этот момент доставляют пропеллер, который он, не уместив в своей машине, попросил доставить позже, но не позднее чем сегодня. Секс забыт. Она уходит, оставив ему номер телефона.
Ее настойчивость интригует. Фотограф торопливо проявляет пленку. Разрезает. Сосредоточенно смотрит в лупу, как Ромул, который собирается основать Рим. Первый кадр — пара, резвящаяся на поляне. Нежная рябь, жмурки света и тени, черная икра невидимого. Второй — они в объятиях друг друга. В какой-то момент Томас застывает между этими двумя снимками. Некоторая странность фигур, нечитаемость мимики и смазанная экспрессия заставляют его увеличивать снимки. Увеличение, давшее название фильму, — не столько каскадное приближение деталей и фрагментов, более мелких на предыдущих снимках, а углубление, амплификация состояний сознания и расширение возможностей восприятия, вплоть до смены точки зрения. Увеличение — тектонический разлом и детонация видимого, раскол скорлупы явлений, подрыв предметности; это не прогрессия и не прибавление однородных безразличных актов восприятия, на манер кеглей в боулинге, а возможность взглянуть на все другими глазами и обрести искомую сущность.
Фигура blow-up, связанная с изначальным опытом сознания, противоречива: то, что приходится приближать, — не предмет, который можно поставить в отношение к другим предметам, не понятие, накладываемое на событие (знаешь, что такое “убийство”, видишь убийство и без промаха используешь его в понимании того, что видишь).
Теперь это средний план (вместо дальнего).
Взволнованность Джейн. Подобную болевую точку, которая, с одной стороны, собирает в себе всю силу и выразительность фотографии, а с другой — захватывает и пронзает нас, Ролан Барт называл punctum[2]. Напряженный взгляд Джейн, стелющийся в сторону, имеет тайное значение, двойное дно, причастен иному свету, он колет и царапает фотографа, выводит из себя, лишает спокойствия и уверенности в том, что это любовное свидание, так удачно подсмотренное им.
Ее лицо полно тревоги. Она отвернулась от седого, коротко стриженного мужчины, обнимающего ее. На что она смотрит? Если бы Джейн смотрела на фотографа, снимок остался бы замкнутым на зрителя, но он, как кукушка в настенных часах, выскакивает за пределы. И этот взгляд за пределы фотографии предполагает интригу, зачинает сюжет, требуя заглядывания за край и динамической интерпретации. Как будто бабочка, которая была приколота и вдруг затрепетала крылышками, вспорхнула и улетела. Силясь поймать то выражение лица и тайно брошенную в сторону реплику взгляда, которые помогут разгадать всю пленэрную композицию, фотограф переходит от статичной самодостаточной фотографии к скользящему кинокадру; на наших глазах он начинает восстанавливать, переводить из разряда невидимого в видимое то, что притягивает долгий тревожный взгляд героини. Подобно тому как слово может развернуться в самостоятельное предложение, а любое предложение, как бы оно ни было велико, способно свернуться, сжаться до отдельного слова, один-единственный снимок, на котором Джейн смотрит в сторону, разворачивается в ряд снимков, образующих целое высказывание, а вся криминальная драма может быть возвращена, как к своему истоку и зародышу, — к одному фото, к одной фигуре, к одному взгляду. Джейн, заметим, приходит к Томасу не из парка, а из… фотографии. Только попав в объектив и на его пленку, она, как змея дудочкой факира, вызывается из шелестящего пустынного парка.
Томас увеличивает снимки и располагает их вокруг себя, создавая своеобразный криминалистический перформанс. Он, как Веласкес в “Менинах”, внутри своей картины. При этом не только фотограф как дешифровальщик оказывается внутри всей композиции, но и мы, распутывая вместе с ним нити скрытой интриги, окунаемся и в процесс расследования, и в саму необычную драму, разыгравшуюся в тихом лондонском парке. Томас преобразует фотографию в кино, в движущийся, раскручивающийся текст, а Антониони обратным порядком возвращает кино к элементарной ячейке визуального ряда, моментальному снимку, когда фото и кинематограф оказываются двумя обращенными друг на друга зеркалами, отражающими то, чего нет друг в друге, и содержащими язык для описания противоположного ряда, не теряя самостоятельного значения.
Таким героя мы еще не видели, фотограф как никогда сосредоточен, внимателен, порой робок и осторожен, как на первом любовном свидании, и в момент такой предельной собранности переведен в другое состояние, неведомое на иных условиях и в иных обстоятельствах, усилен приставленным полем наблюдения, в котором сначала все точки равно не присутствуют, скрываются, уходят в темноту неведения, но потом выходят на свет божий, выстраиваются, пробегаемые внимательным взором, и становятся прозрачными для смыслов. Это уже не единый взгляд, а многочисленные образы и отголоски, отразившиеся от фотографий на стенах, как от амфитеатра невидимой бездны.
Его дом из холодного в голубых тонах фотоателье, где штампуется красивый товар, превращается в экзистенциальную лабораторию, в которой он экспериментирует над собой — ставит себя на карту, напряженно ищет, рискует и играет с нешуточной опасностью. Не только он со своей углубленной мудростью и особым даром созерцания, наблюдая, одним присутствием переписывает всю картину, но и она в свой черед обновляет его как наблюдателя.
Парк тот же, но смысл всей картины теперь иной. Если седовласый весь обращен к девушке, то ее внимание приковано к чему-то другому. К кустам! Четвертый снимок — часть изгороди с темными зарослями. Потом еще четыре кадра с девушкой и мужчиной. Он звонит по телефону и выясняет, что номер, который она ему дала, — ложный, и это справедливо: он дал ей не ту пленку и в ответ получил не тот номер. Герой возвращается к четвертому снимку, увеличивает его неимоверно и — о ужас! — за изгородью, получая контур, объем и признаки человеческого тела и движения, отчетливо проступают из листвы лицо, рука и ствол пистолета, направленного на мужчину на поляне. Таинственный пейзаж обступает Томаса, чтобы могучее воображение коснулось его своим властным жезлом и молчаливые тени заговорили.
Из зарослей нарождается фигура стрелка.
Убежденный, что фотодокумент раскрыл все свои тайны, фотограф звонит другу и писателю Рону, с которым делает альбом, и сообщает, что, сам того поначалу не ведая, предотвратил убийство. Опять заявляются длинноволосые стройные девушки в цветных колготках, от которых он пытался избавиться утром, — Блондинка и Брюнетка (Джейн Биркин и Хиллз Джиллиан). Угловатые и смиренные фанатки гоняются за своим кумиром, и поскольку все вокруг мечтают о чужом гардеробе, то и они примериваются к новым модным платьям, висящим у него в студии; Томас открыто презирает этих райских пташек, но они обожают его за это еще сильнее. Однако сейчас, вместо того чтобы прогнать их, как он твердо намеревался, фотограф пускается с этими безмозглыми и абсолютно прелестными созданиями в неожиданные шалости. Сиреневая кутерьма. Эротическое плавание в бурном бумажном море. Но об этом позже. В конце мгновенно забывает обо всем, вперившись в висящие снимки. Совлекая последние покровы тьмы неведения, делает еще одно увеличение. Извивающаяся изгородь, зернистый круг поляны, третье по счету дерево, которое роковым образом держит весь ландшафт на манер резонаторного отверстия гитары. Теперь видно, что под этим деревом что-то (кто-то) белеет в траве. И вдруг из неопределенного белого пятна под кустом начинает ясно выступать распростертое тело.
Томас не видел убийства, он его реконструировал. Несмотря на полный триумф, он расстроен как никогда.
Мы не можем знать, придет ли мысль и когда это случится, но подумав — мы знаем, что подумали, и знаем весьма определенно. Наше знание обладает полнотой и завершенностью, не сбиваемой и не отклоняемой никаким возможным заблуждением. Это принцип индивидуации: вещи в мире доопределяются в точке их восприятия, в точке, где сотворено “я”. Идея убийства не приходит в голову Томаса из парка, где он наблюдает любовную пару. Эта идея не имеет причины во внешнем мире, а если нет причины внешней, то она рождается в буквальном смысле из ничего. Как из этих признаков и элементов складывается истинная картина всех событий? Как черты соединяются в единое лицо преступления? Детерминировано ли ими то, что увидел Томас? Нет! Восприятие определилось добавлением какого-то особого источника и другого начала. Восприятие всех составляющих частей доопределилось, индивидуализировалось в качестве именно этого события — убийства, а не любовного свидания или чего-нибудь еще. Другое начало, как корневая система, прорастает в сознании фотографа. И это выполнение понятого, осуществление в полном бытии увиденного замыкает все точки и единообразно их определяет. Перед нами интервал, и он весь в настоящем, и в нем нет последовательности и смены состояний.
Томас понимает, что это убийство, а потом видит его в парке. Это различено, случилось и нельзя, как набежавшую слезу, смахнуть с лица парка Мэрион — мир стал другим, и опыт извлечен необратимым образом. Элементы содержания (мужчина, женщина, взгляд в сторону, неизвестный человек в кустах и проч.) здесь не аргументы. А что аргумент в объединении их в единое целое под названием “убийство”? Форма. Форма, которая приходит со стороны сознания Томаса, являющегося ядром обоснования всей наблюдаемой ситуации. Поскольку никакое натуральное видимое содержание предметов не является источником мысли, символ пустоты у Антониони указывает на то, что источник мысли в ней самой.
Рандеву и милая прогулка по летнему парку на поверку оказались ловушкой и коварной смертоубийственной расправой. Никакое непосредственное отражение действительности невозможно. В итоге ты получишь лишь наращивание лишних сущностей и ложную мультипликацию образов. Сколько бы мы ни говорили о непосредственности фотографии, эманации референтов, сертификации присутствия и утверждении подлинного, это не поможет, и фотография обманывает намного больше, чем язык, в силу именно этой иллюзии полнейшей реальности изображенного. Жизнь нуждается в самом суровом дознании и доведении до ума. Собираясь найти правду в трущобах предместий и гуще народных низов, Томас встречает ее в четырех стенах своей мастерской и в детективной аскезе самопознания, двигаясь от анализа (от неизвестного к известному) к синтезу (от известного к неизвестному). В начале “Фотоувеличения” главный герой велит своим манекенщицам закрыть глаза. Это неожиданное распоряжение имеет троякий смысл: во-первых, девушки устали, им надо расслабиться, прийти в себя и полноценно вернуться к работе — Томаса здорово раздражает их вялость и несобранность; во-вторых, Томас не без удовольствия наказывает их за плохую сессию и даже умудряется забыть о том, что они битый час ждут его в студии все в том же щекотливом и трудном положении; в-третьих, смотрит и повелевает здесь только он, модели — объекты визуальных манипуляций и фотогенетики, чистым объектам открытые глаза ни к чему. Но это все самые общие ситуативные мотивировки. Главным является то (и компетенции персонажа и режиссера в этом эпизоде очевидным образом расходятся, потому что последний знает о том, что произойдет в парке, герой пока нет), что бесцеремонное распоряжение фотографа — усеченная отсылка к известному началу романа Джеймса Джойса “Улисс” с его призывом “Shut your eyes and see” [“Закрой глаза и смотри”][3]. Хитроумный императив относится не к девушкам, а… к себе самому. Этот рефлексивный жест означает, что это ему надо будет закрыть глаза, чтобы увидеть то, что произойдет в парке на самом деле, внутренним, духовным оком взглянуть на все. После этого странно звучат рассуждения того же Делёза о том, что герой Антониони не в силах отличить реальное от воображаемого и внутри себя ему нечего делать — он, по мнению французского философа, страдает от отсутствия не других, а самого себя[4]. Упаси боже, я не хочу сказать, что les grand-pères ont toujours tort [деды всегда не правы (франц.)], просто по крайнем мере этот герой Антониони прекрасно отличает реальность от воображения и внутри себя жизнью тронут в полной мере.
В расследовании Томаса три этапа:
1. Непрерывность сцены в парке рассекается на дискретные единицы — кадры фотопленки, которые в дальнейшем подвергаются последующему дроблению при увеличении отдельных частей.
2. Снимки выступают как знаки, подлежащие истолкованию.
3. Цепочка этих знаков дает нарратив[5].
Но как детективное ядро соотносится с остальной структурой? Оно — лишь паровой котел текстового целого.
Томас едет в парк Мэрион, чтобы подтвердить свою страшную догадку. Под деревом, действительно, труп. Он возвращается, задумчиво бродит по своей мастерской, касается ногой пропеллера (точно так же, как он рукой касался мертвого мужчины), идет к художнику Биллу, который в это время самозабвенно занимается любовью со своей супругой, фотограф, задумчиво поразглядывав их, возвращается к себе. Треугольник здесь, заметим, такой же, как и в парке, только композиция горизонтальная: женщина в жарких объятиях партнера смотрит не на него, а в сторону: Джейн — на киллера в зарослях, Патриция — на фотографа, придавая всей сцене адюльтерный характер, потому что, занимаясь любовью со своим мужем Биллом, она жестом руки и умоляющим взглядом удерживает Томаса, достигая оргазма благодаря его видению. Камера при этом движется так, как будто художник с женой лежат на его картине, проступают из нее, являются в качестве оформившегося хаоса искусства.
Вернувшись к себе, фотограф замечает, что снимки со стен исчезли, негатив тоже. Томас звонит Рону и, узнав, где он, едет туда. По пути, возле местечка под названием Permutit, видит девушку, похожую на Джейн, бросается за ней и попадает на рок-концерт группы “The Yardbirds”, но ведет себя так, как будто только Антониони, приведший его сюда, знает о знаменитой группе, а сам Томас — ни сном, ни духом. Перед залом на двери рисунки и надписи:
“Здесь покоится Боб Дилан. Скончался в Ройял-Альберт-Холле 27 мая 1966. Спи спокойно”, “Я люблю Гарольда”, “Или там, или где-то поблизости”. Все стены обклеены афишами предстоящих концертов. Публика небольшого зала как-то остолбенело слушает музыку. Джеф Бек ломает гитару и бросает обломки в публику. Немедленно начинается свалка. Томас от души участвует в ней и вырывается из толпы, размахивая трофеем. И сразу опомнившись, приходит в себя на улице и с недоумением отбрасывает добычу.
Наконец он добирается до нужного дома на набережной Челси. В обширных, обставленных старинной мебелью апартаментах — многочисленное общество людей артистического вида. Они разговаривают, пьют, курят травку. Безмятежные шестидесятнические сатурналии. Все кажется немножечко нереальным. Найденному наконец бородачу Рону Томас говорит, что видел в парке убийство, но предлагает не пойти в полицию, а… сфотографировать труп. Дружище Рон под таким кайфом, что в толк ничего взять не может. Фотограф оставляет попытку объяснить что к чему.
Ранним утром он просыпается один, в измятом костюме, на чьей-то чужой постели. В окне деревья, крыша дома напротив, полоска синего неба и лакомый кусочек Темзы, блестящей, как пианино. Тихо и взъерошенно выбирается на улицу и спешит с любимым другом-фотоаппаратом в парк. Под кустами ничего. Труп исчез. Исчез как венецианский фонарь, упавший с гондолы в темные воды канала. Ни единой примятой травинки. Он поднимает глаза, смотрит в небо: усиливающийся ветер треплет листья. Подойдя к теннисному корту, он видит черный автомобиль из начала фильма. Из него высыпает все та же карнавальная компания. Все тот же шелест ветра. Двое начинают играть невидимыми ракетками и невидимым мячом в теннис. На парне — рабочий комбинезон, на его партнерше — полосатое платье поверх черных колготок. Остальная компания, расположившись вокруг, внимательно следит за пантомимой и жонглированием несуществующим мячом. В это время невидимый мяч невидимо перелетает через сетку, и один из участников просит Томаса подать его. Тот сначала недоуменно смотрит на пустое место, а затем, включаясь в игру и прозревая, возвращает мяч на площадку. Игра продолжается. И в это время фотограф отчетливо слышит удары ракетки по мячу. Камера снимает с очень высокой точки над лужайкой. Томас с такой высоты кажется крохотной одинокой фигуркой в безбрежье травы — не зря, вернув мяч в воображаемую партию, он как-то грустнеет и опускает глаза долу, в знак полной обращенности на себя, должно быть.
Последний кадр фильма: изображение героя, сглаживаясь, исчезает, и в ушко высвободившегося пространства на зеленом фоне травы, с которой, напомним, начинается фильм, продевается слово “Fin”, а вслед за ним сверху водворяется надпись “Blow-up”. Томас исчезает, как теннисный мячик.
Конец.
Исчезновение героя, совпадающее с концом фильма, в каком-то смысле купирует сам конец, делая текст открытым и незавершенным. Это избавление от героя и пустота предельно утяжеляют место — как в том армейском анекдоте: “Какой из предметов снаряжения самый тяжелый на марше?” — “Фляга для воды, когда пустая”.
Кольцо иллюзиона замыкается.
В чем же смысл картины? Отказ от веры в истину? Неспособность человека даже приблизиться к ней? Безнадежная попытка вырваться из мира призраков?
Два важнейших взаимосвязанных вопроса, на которые отвечает фильм, лишь упрочив их вопросительную остроту и двусмысленность: что такое реальность? и до чего художнику есть дело? Как бы ни решался вопрос относительно реальности, поспешим с ответом на второй: художнику ни до чего нет дела, потому что единственное его дело — это искусство. Нам не понять ни первоистока, ни значения, ни своеобразного достоинства первого вопроса, пока мы не определим его место в структуре всего фильма.
“Blow-up” буквально взят в кольцо мимами. Ими все начинается и заканчивается. Мы имеем целый ряд кругов, встроенных один в другой: круг, который описывают в своем автомобильном движении мимы в начале и в конце фильма, — круг (плотное кольцо), в который они берут фотографа в начале, выцыганивая у него деньги, — пластинка с джазовой музыкой, все время звучащей в фильме, — объектив фотоаппарата, — лупа и, наконец, — круглое ядро теннисного мяча, обратившегося в ничто.
“Фотоувеличение” открывается ранним утром субботы, когда в мощеный двор, окруженный современными строениями, въезжает джип, битком набитый студентами в причудливых одеждах и с добела накрашенными лицами. Джип разворачивается и снова выезжает на улицу. Слышаться гомон и возгласы. Машина останавливается у въезда на площадь. Толпа, как горка чайных чашек, с шумом и смехом вываливается из джипа и, размахивая руками, выбегает с Сент-Джеймс-стрит, устремляясь по главной улице. Эта линия карнавальных размалеванных масок монтируется с другой — параллельно появляются обитатели ночлежки. Со двора Кэмбервелл Ресепшн Сентр — приюта для бедных — через главные ворота появляется небольшая группа людей в обносках и тряпье. Среди них — молодой человек, лет двадцати пяти, непричесанный и небритый.
Это Томас, он такой же ряженый, как и мимы. Кроме них мы видим монашек, полисмена, гвардейца в красном мундире и медвежьей шапке, натурщицу (Верушку фон Лендорф), похожую на гуттаперчевую куклу, африканцев в национальных костюмах, которые распространяют маскарад по всему городу. И весь искренний и принципиальный порыв героя к документальной летучей достоверности, по мнению многих критиков, с первого появления на экране осквернен лицедейством и сокрытием истинной сущности. А после такого грехопадения можно ли подняться?
Удостоверившись в круговой поруке обмана и всеобщей подмене, зоркий зритель начинает сомневаться даже в трупе. Убийство, разумеется, произошло, и обнаружение несчастной жертвы — неоспоримое тому свидетельство. Но аккуратно лежащее тело выглядит весьма странно. Никаких явных следов насилия. Никакой крови. Глаза открыты. Невидящий взгляд устремлен вверх. В аккуратном до неловкости положении тела не таинство смерти, а какая-то вежливая обыденность окоченения; не бессмертие души, а остекленелый взгляд в пустые небеса. Решительно ничего не зная о жертве, мы тем легче смиряемся с его обезличенной кончиной, не знающей глубины и близости сострадания. Покойник похож на восковую куклу или на актера, притворяющегося мертвым (в определенном смысле так оно и есть). Телу намеренно придан вид фальшивки.
Так ли все это?
Да и было ли убийство? — не унимается скептик. Возможно, это ненасильственная смерть, бедолага умер как-нибудь сам, а пистолет Томасу привиделся. Это очень сильная гипотеза. Почему тогда так настойчива Джейн? Ее страхи больше обычной супружеской измены. Сцену в парке, как правило, связывают со скандальным адюльтером и с делом Джона Профьюмо — военного министра и консерватора, уличенного в порочащей связи в 1963 году. Это ложная референция и типичный фантазм, навеянный шпиономанией и ненасытным постельным любопытством широкой публики. События и лица “Фотоувеличения” не имеют никаких соответствий историческим обстоятельствам дела Профьюмо, но эта ошибка восприятия стала частью и неустранимой тенью всякого разговора о фильме Антониони.
Сколько бы Томас ни рядился и ни мимикрировал, он — не участник всеобщего театрализованного действа. К тому же перед нами не кривляющиеся уличные актеры, а студенты, занятые традиционным сбором благотворительных пожертвований, как это было принято в Лондоне тех лет. Они входят в роль, он — выходит, сделав все нужные снимки и уезжая на своей дорогой машине домой. В конце, на теннисном корте, он тоже в стороне от размалеванных шумных друзей, лишь наблюдая за игрой. В начале мимы просят деньги, в конце — мяч, и в обоих случая находят понимание — он дает и то, и другое, оставаясь вне игры и представления. Может быть, Томас — единственный, кто слышит звук мяча на площадке.
И потом, как добраться до голых фактов и какой-никакой истины в мире, где все выдает себя за то, чем не является, где все пронизано зеркалами и их косыми отражениями, где, как сказал бы Сартр, все есть то, чем не является, и не есть то, чем является? В этом краю тотальной игры и фальсифицированности, отправляясь в Париж, ты оказываешься лишь на другом конце Лондона, будучи женатым, легко поймешь, что на самом деле холост, а при наличии детей убедишься, что это только кажется, а если их нет, то… Дальше уж лучше не загадывать. Докопаться до правды можно, только играя по их правилам, только скрываясь и овладевая всеми тонкостями и изощрениями переодевания и обмана. Как настаивал Жан д’Удин, “всякий художник есть особый мим” [tout génie artistique est un mime spécialisé][6]. Êокон фальши и нелепой бутафории можно прорвать только изнутри. Что Томас, сознательно или бессознательно, и делает. Иначе нельзя сделать тайное явным, совлечь маски и обнажить изнанку[7]. Ты не можешь явиться на костюмированный бал голым, а если и рискнешь — получишь первый приз за костюм среди костюмов.
Представим, что Томас:
1. Не проявляет никакого интереса к мольбам и ухищрениям Джейн, выбирает одну из миролюбивых и выразительных парковых фотографий, как собирался, и ею торжествующе завершает проект — альбом вышел жесткий и напряженный, а лучшего финала и не придумаешь.
2. Находит труп и вызывает полицию, после чего для стражей порядка найти Джейн и убийцу — раз плюнуть, а Томас продолжил бы почивать на ночлежных лаврах и модножурнальных нарах.
Ни того, ни другого с фотографом не может произойти. Джейн запалила фитиль интриги, задала загадку, и он обязан найти ответ. Обратиться в полицию — значит устраниться, не разгадать загадки, касающейся его самого.
Хочется думать, что не только парковые фотографии, но и сам альбом — пороховая бочка, ящик Пандоры сюжетов, могущих возмутить любую гладь и ослепить любое созерцание. Наш герой любопытен до неестественности, бушует жаждой новых ощущений и безграничного интереса к жизни. И во всем ему хочется дойти до самой сути. В этом он настоящий философ, ибо быть философом — значит всегда воспринимать действительность как нечто новое, никогда не приедающееся. Навряд ли мы можем сказать, что он рвется из благополучного и сытого мира моды и глянцевых иконостасов к неприкрашенной реальности и репортажной правде фактов, потому что он и там и там на белом коне, а недоволен исключительно собой. Под холодным блестящим панцирем успеха и достатка бушует пламя глубочайшей неудовлетворенности собой. Отсюда строптивый норов и жадное до новизны своеволие. Он не смотрит в объектив отвлеченным взором, а вживается в то, что видит, даже вляпывается в видимое. Однако этот современный летописец, великий упрямец и следопыт, с необыкновенной легкостью оставляющий позицию чистого наблюдения и, казалось бы, полностью растворяющийся, сливающийся, совокупляющийся с тем, что он наблюдает, — будь то ночлежка, беснующаяся молодежь, гомосексуалисты, явно принимающие его за своего, или эротические игры с девицами, — столь же легко и обратимо забывает об идентификациях и разнообразных амплуа и возвращается в берлогу сторонней обсервации.
Томас обладает редкой способностью уходить с головой в то, что он делает, но потом, постигнув сущность и насытив любознательность, отворачивается от необычной затеи с равнодушием, так легко уживающимся с пылким темпераментом. И насколько наш герой кровно заинтересован в разгадке паркового свидания, настолько он остывает ко всей истории, когда в ней поставлена глухая точка — убийство все-таки случилось. Он, может, поначалу и собирался довести дело до полицейского расследования, но… отвлекся. Как ребенок. И отвлекло его ровно то же, что помогло размотать клубок интриги в студии, когда он построил нарративный текст и смог увидеть на снимке убийцу так же ясно, как будто сам им стал. Торжество самодостаточной мысли над моралью и законностью. Артистическая роскошь божественного безразличия. Он рад был бы предотвратить преступление, но и особо огорчаться из-за него не стал. Как говорил в таких случаях Дзига Вертов, уличая лошадь в неумении мяукать, мы разоблачаем себя, а не лошадь. Герой “Blow- up” умеет делать то, что ему положено. Даже в полнейшем исступлении, сладострастно оседлав свою модель во время съемки, он заставляет ее: “Работай, работай!” Одержимый исключительно красотой и работой, Томас — поэт, а не гражданин (не плохой гражданин или хороший, а никакой), он свободный художник и, как говорил Бендер, холодный мыслитель, для которого жизнь человека, конечно, не пустой звук, но и пустой звук значит не меньше человека. Если Томас как художник вне морали, то это не значит, что он может струсить и сподличать. Как раз наоборот! Но чтобы он ни делал, он все равно остается в пятом времени года и четвертом измерении.
Томасу мешает вызвать полицию то, что помогло ему раскрыть преступление в парке. Эстетическая (чуть не сказал — эстетская!) избыточность самого поведения[8]. Поэтому у зрителя и возникает желание разделить фильм на хорошо сбитое детективное ядро и на оставшуюся внесюжетную и как-то плохо сочетающуюся с ним часть. Между тем, понять “Фотоувеличение” можно лишь с учетом и того, и другого. Пропеллер, барахтанье в фотостудии, кусок гитары и заключительный эпизод игры в теннис с незримым мячиком — звенья одной цепи, черты одного лица. И это такие же законные элементы сюжета, как и детективное ядро.
В “Приключении” один из героев цитирует Оскара Уайльда; в оригинале это фраза из “Портрета Дориана Грея”, из самого начала восьмой главы, звучит так: “We live in an age when unnecessary things are our only necessities” [В наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку][9]. У Уайльда эта мысль звучит из уст расточительного барчука, который купил, изрядно потратившись, туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика XV и справедливо опасается, что его опекуны не поймут мотовства. Томас — человек другого времени, да к тому же большой молчун, поэтому от него не стоит ждать афоризмов, подобных уайльдовскому, но его действия в том же духе. Покупка пропеллера — немотивированный, спонтанный и не вписанный в окоем жест, еще один blow-up, взрывающий логику поступков и естественную последовательность событий. Яд следствия, влитый в ухо причине. Скачок из одного измерения в другое. “Существовать неинтересно с пользой” (Бродский). Польза и целеполагание — ангелы смерти, не дозволяющие войти в рай истинных смыслов. Но благодаря веселому и самодостаточному перпендикуляру действия Томас этих ангелов бежит. Являясь в чистом виде фактом целесообразности без цели, этот жест невыводим извне, неразложим как целое и содержит смысл только в себе самом. Но в этом случайном, как будто непредсказуемом жесте, согласно которому, не будем забывать, Томас не свободен выбирать или не выбирать пропеллер, — герой весь, сполна, во всей широте и кипучести своей художнической натуры.
Пропеллер — это сила, свобода и бесконечно прекрасная идея полета. Это часть, которая больше целого, потому что, являясь малой частью самолета, пропеллер символически вбирает в себя весь мир полета, жажды высоты и абсолютной власти над собой. Конечно, оставаясь материальным орудием и техническим изобретением, он переходит в разряд эпифании, совершенного символического предмета, идеального произведения ума, предназначенного для определенного действия, завершенного и полного внутри себя самого, а не производимого природой (более того, отбирающего у нее один из основных законов — гравитацию). Пропеллер дарит то, чего не было в парке и над парком, который закупорен сверху кронами деревьев и верхним обрезом кадра, — небо. Большое и близкое, небо, щеголяя белыми манжетами облачков, появляется, когда они с хозяйкой выносят дорогую сердцу покупку из антикварной лавки к машине.
Одно из следствий принципа избыточности — зигзагообразность и кривизна путей. Томас, к примеру, очень странно ведет машину: то прибавляет газ в сплошном потоке машин, хотя совершенно ясно, что через несколько ярдов придется притормозить, то начинает резко поворачивать, словно в последний момент понял, куда ехать дальше. Он зигзагообразно пробирается сквозь толпу на концерте. Таково же и отношение к слову.
Так и хочется, в духе семиотиков конца 1960-х — начала 1970-х годов, построить схему: антикварная лавка (пыльное прошлое) — фотостудия (самая жгучая современность). Эта изначальная жесткая противоположность ослабляется, а потом и вовсе снимается однородностью описания. Лавка — странное прошлое, здесь вещи разных эпох и мест собраны и выставлены по синхронистическому принципу, включая в свою витринную древность реалии и предметы современной жизни (пропеллер, фотографии и иной промышленный утиль). Старик в лавке с вещами и лицами ведет себя точно так же, как Томас в своей мастерской, — властно и бесцеремонно. Соединяющий антикварную лавку и сверхсовременную мастерскую героя, пропеллер дорастет до самолета “Забриски Пойнт”, который именуется “доисторической птицей”, прямым сообщением связывающей XX век с каким-то немыслимым, исчисляемым миллионами лет, доисторическим временем.
Томас — не падший ангел, помнящий о небе, он и есть небо, гуляющее по земле. Полет начинается до покупки пропеллера, когда за спиной хозяйки лавки, сначала справа, потом слева, появляется на стене фотография самолета, демонстрирующего зрителю полный вертикальный размах крыльев. Бурная реакция на пропеллер, таким образом, подготовлена этой фотографией (и потом — это единственная фотография в антикварной лавке; герой как бы ее не видит, но это не важно, мы ее видим, а главное — она видит его). Радиопозывные фотографа в его машине: “Небо-четыре-три-девять. Прием”. В его фотоателье снимок девушки, прыгающей с парашютом. Апофеоз летной темы: Томас создает мастерский текст интерпретации, узревает труп на фото, и в этот момент над его студией слышен шум пролетающего самолета. Самолет, строго говоря, пролетает не над, а через мастерскую и знаменует полный успех, попадание в яблочко, высший акт понимания. До сущности вещей только самолетом можно долететь. Чувство полета — шестое чувство, являющееся талисманом и формой чувства для любого другого чувства.
Гриф — не освидетельствование стадного рефлекса и подверженности массовому психозу, а бессознательное стремление первенствовать, чистая воля к победе и завоеванию любой цели любой ценой, сколько бы пустой и бестолковой она ни была — с точки зрения искусства это совершенно неважно. И пропеллер, и обломок гитары — символические предметы, не имеющие никакой практической ценности и убегающие, как хозяйское тесто, во имя совершенно других блюд. Такова же природа сцены с раздеванием, этого последнего уютного гнездышка над бездной утрат и безнадежных разочарований, когда студия превращается в театральную площадку, фотосессия — в бурную импровизацию, бумажный экран-реквизит — в подвижную и проницаемую сцену, неподвижные и холодные модели — в живых и брызжущих смехом существ, а абсолютно голое тело — в апофеоз целомудренности. Кто из нас не хотел бы так повалять дурака нагишом в рулоне бумаги? Некоторая неловкая и стыдливая кукольность не покидает эти сиюминутные подмостки, сочетающие детскую игру, невиданную радость и самую сладкую эротику. Но когда на фоне сиреневого бумажного экрана стирается граница между фотографом и моделью, мгновенно рушатся барьеры и между серьезным и несерьезным, игрой и реальностью, небом и землей, хаосом и космосом, человеком и вещью, мужчиной и женщиной, замыслом и воплощением, театром и кино.
Отсутствие охватывает все элементы повествования. Исчезает труп (а без него какое может быть полицейское дело?), исчезают все улики, убийца — тот вообще игра света и теней в густой листве, не более. В конце концов исчезает и наш добровольный детектив-фотограф — его, как Ганимеда чистого настоящего времени, уносит всевидящая и непогрешающая рука Антониони. Джейн и убийца исчезают параллельно исчезновению Томаса. Стоит ли удивляться, что Томас сошел на нет, если с этого твердого “нет” он начинается в фильме — ни прошлого, ни личной истории, вообще никакой преамбулы. Этот “ниотколь-человек”, как сыронизировала бы Марина Цветаева, живет исключительно настоящим, припадая к нему жадным ртом, ища себя и не удовлетворяясь горячими прогонами и любовными триангуляциями, без конца погружаясь в каждую неизмеримо малую величину и неуловимость пульсирующего времени. Но антониониевский ниотколь-человек — не бестелесный комедиант и не дух из шекспировской “Бури”, испаряющийся в воздух после представления. Способны ли мы прочитать исчезновение фотографа как негатив в высшей степени позитивного открытия реальности?
Нахождением упругой мочки смысла через прокалывание, которое настигает Томаса в конце фильма, Антониони как бы пробует на прочность всю конструкцию — что может пропасть, а что нет. Что остается, ведь подобными интервенциями Антониони не ничтожит действительность, а вымораживает все внешнее и неподлинное? Что не может исчезнуть ни при каких обстоятельствах? Раскрытое преступление, разгаданная загадка! Этот бытийствующий факт, осуществившееся реальное событие нельзя ни обойти, ни вернуть в чертог теней и смертную сень несуществования. Смотреть на нескончаемые исчезновения в фильме не легче, чем на комнату, где все, начиная с пола и потолка и кончая мебелью, было бы одного цвета, к примеру белым или черным, делая эту монотонность красок невыносимой и крайне затруднительной для выделения каких-либо элементов интерьера. Однако в апартаментах Антониони как раз есть нечто, что разрушает колористическое однообразие потерь, — это нестираемый бытийствующий акт понимания.
Даже Бог не может сделать бывшее небывшим. Как говорил Набоков, однажды увиденное не может быть обращено в хаос никогда. Все, что случилось с Томасом в мире, случилось и с миром, и вернуть это назад, как бракованный товар в магазине, нельзя. Это тот порядок, который идет в залог и приплод бытия, непрерывно творит и обновляет мир и не может сгинуть в пасти беспощадного Хроноса. Джойс, буквально в том же пассаже, где и “Shut your eyes and see”, именует это “неотменимой модальностью зримого” [ineluctable modality of the visible][10]. В бурном море утрат, смертей и разочарований фильма это единственная незыблемая скала.
Антониони страшно всех запутал, заявив, что исчезновение Томаса — это его автограф. Неужели он сделал красивое “тьфу!” и, как швея откушенную нитку, сухо сплюнул изо рта постороннее тело? Получалось так, что режиссера нет в своем собственном фильме, а прокрадывается он в него только в самом-самом конце, чтобы расправиться со своим героем. Конечно, это парадокс, который простодушные критики приняли слишком буквально. Точка исчезновения героя, являющаяся вершиной конуса исчезновения подавляющего большинства вещей и лиц фильма, — это и точка максимальной легализации авторского присутствия, разворачивающего конус обратным порядком и в обратную сторону. Герой исчезает под личную расписку и ответственность автора. Томас — не Антониони, но одеваются они у одного портного, имя которого — кино. Отличить автора и героя трудно, они не просто соревнуются, кто меньше о себе скажет, но и проникновенно молчат друг о друге. Перед нами два текста: фотографический текст Томаса об убийстве и текст Антониони о Томасе и многом другом, что складывается в сам фильм под названием “Blow-up”. Эти тексты не совпадают.
Томас может полагаться как несуществующий, или как отсутствующий, или как существующий теперь в каком-то другом месте, или не полагаться в качестве существующего вовсе — от этого зависит наша интерпретация, но Антониони не исключает ни одну из этих точек зрения. “Хоть ключ один, вода разноречива…” Неопределенность, столь смущающая многих зрителей, — эстафетная палочка бесконечности и знак подлинного бытия, и в этом смысле Антониони похож на Достоевского, у которого неопределенность, выражаемая прежде всего наречной частицей “как бы”, становится оператором божественной реальности и несомненной истины.
В антониониевском “Приключении” (1960) исчезновение героини не только превращает ее в главную героиню, но и дает ей такую власть, которой ей никогда не достичь, останься она на прежнем месте и в прежнем качестве. Из любовного треугольника — Анна (Леа Массари), ее возлюбленный Сандро (Габриэле Ферцетти) и ближайшая ее подруга Клаудия (Моника Витти) — Анна неожиданно пропадает во время прогулки и посещения пустынного острова в море: мы так и не узнаем, гибнет ли она, уезжает ли с острова на лодке или украдена кем-то. Сандро и Клаудия отправляются на поиски Анны. И этот поиск исчезнувшей подруги и возлюбленной буквально толкает их в объятия друг друга. Их любовь вырастает из зияния, оставленного Анной, отравляя сознанием аморальности, запретности и от- того делая их отношения еще более сладостными и желанными. Как замечает Михаил Ямпольский, исчезновение третьего делает любовный треугольник неразрешимым: присутствующий третий может быть исключен, а исчезнувший уже не может быть вычеркнут[11]. Отсутствие сильнее присутствия. Топос исчезновения, подобный “Приключению”, пуст не от чего-то, как нам привычно было бы думать, а для чего-то, причем — для максимально многого, входящего в работу через кузнечные меха воображения. С Анной могло случиться все, что угодно, не исключен ни один из вариантов развития сюжета. В ее исчезновении заданы условия реализации любой возможности, не исключая в пределе и того, что она может появиться в том месте, где исчез герой “Blow-up”. Исчезновение похоже на бессмертие — герой избегает своего конца, и наше незнание его судьбы избавляет его от смерти. Пустота — не пустое место, а створожившийся символ. Конечно, не мерзости запустения и вакуумной бездыханности жизни, равной смерти, а воздуха и свободной дали. У этой пустоты свои уста. Она — не абсолютная лишенность всяких определений, полная бесформенность и нерасчлененность, а весть о чем-то высвободившемся, простираемом и избавленном от преград. Здесь исповедуются открытость и близость к миру.
Томас подобен Христу, покидающему свою гробницу. Это первообраз всякого истинного метафизического исчезновения. Один из учеников подходит к могиле — после Симона Петра и перед Марией и Марией Магдалиной, замечает, что камень отвален, и смотрит внутрь. “И увидел, и уверовал” (Ин. 20, 8). Но что он, в сущности, увидел? Ничего. Христос покинул могилу. Гроб пуст. Только три персонажа в фильме смотрят вверх, в небо — Томас, фотоаппарат (а это тоже персонаж) и… труп. Причем Томас, вставая на место, откуда исчез труп и как будто проверяя — не мог ли он подняться в небо, поднимает голову и смотрит вверх. Это неслучайный взгляд.
Исчезновение Томаса — не дыра в мире, а сам мир в дыре, подвергнутый феноменологической редукции (подвешиванию) объективной действительности, того, что Гуссерль называл “естественным воззрением” (поэтому у Томаса и нет предыстории, срезанной самим началом фильма), мир, держащийся за счет своей формы, как картина в том анекдоте о художнике, которая сама висит на стене без гвоздя, исключительно на собственной тяге и внутреннем достоинстве. Мандельштамовская мысль о том, что законченный смысл стихотворения относится к бумаге так, как купол храма к пустым небесам, — о том же самом, и о том же забота Антониони. И второй очень важный момент: это не дыра в пространстве, а зазор во времени, зазор между первым и вторым шагом, между хаосом и складывающимся образом, как у художника Билла. Законов нет на первом шаге, они возникают на втором, и надо мыслить, как говорил Мераб Мамардашвили, между этими шагами, в промежутке. Исчезновение — символ дискретности времени, когда следующий момент не вытекает из предшествующего ему момента времени; оно позволяет разорвать связь вещей с нашими ментальными содержаниями и зависимость от наших состояний и предварительного знания о них. Место, где запропастился Томас, ближе к таким пропеченным местам и сильным выемкам, как смерть, рождение и Бог, чем к топографической бутафории вроде лужайки, теннисного корта или улицам Лондона, который сер, как диван Томаса. Судьба их иная: они из горизонтали содержания, где все точки заняты ментальными формами и их референтами — объектами внешнего мира, переводят нас в вертикаль иного, символического режима существования.
Дыра — символ, во-первых, некоммуницируемости опыта, во-вторых — необратимости событий (мы не можем вернуться в парк и посмотреть на него так, как будто там ничего не произошло) и, в-третьих — мысли как формы пустоты, то есть свободы от всех содержаний.
Нам остается невозвратимый в хаос, обессмертившийся кустарный шедевр криминалистики — текст понимания того, что на самом деле произошло в парке. Он, демонстрируя свою наиобъективнейшую необратимую сторону, торжествует победу над любым отрицанием, любыми пустыми знаками и обезглавленными референциями.
В начале фильме фотограф посещает соседа — юного художника, который, разглядывая свою картину, признается, что, творя, он не знает, что получится. Образ рождается из хаоса, что-то вдруг начинает проступать, формируются части тела, например вот здесь стала видна нога… А потом все складывается воедино. Вроде как с уликами в детективе. Картина проявляет себя сама. Не согласно предначертанному плану и идее, предшествующей тексту, не подражанием внеположной картине реальности, а актом свободного, произвольно-избыточного творения. Только так рождается произведение искусства. Абстракции конкретизируются, беспорядок готов остепениться в порядке линий и красок, а ничего не изображающая картина бурно бродит изображением. Из этой беспредпосылочной и беспредметной каши наваривается вполне предметный и законосообразный мир смысла.
Параллель с фоторасследованием Томаса почти полная. Хотя фотограф и не отвечает на эти слова, это и его точка зрения на искусство, и просвет того, что произойдет с ним в криминальной драме в парке. Но поскольку он не отвечает, это можно интерпретировать и как дружеский жест несогласия и желания остаться при своем мнении, ведь изначально у него совсем другая стратегия — активного, хищного, конструктивного вторжения в действительность и рассечения и синтеза изобразительного материала по одному ему ведомому закону. Но в пределе эти две прямо противоположные стратегии сходятся и примиряются.
В этом странном детективе, где мы не знаем ни жертву, ни убийцу, ни мотивы преступления, Томас объединяет роли и умнейшего детектива, и криминалистического фотографа, и убийцы (подобно реальному убийце, он, вооруженный фотоаппаратом, прячется за изгородью в парковой чаще и снимает любовную парочку, реализуя это место как возможность своего собственного мышления, а не возможность стать убийцей), и свидетеля (когда исчезает труп, он — единственная ниточка, тянущаяся к убийству и могущая судебно свидетельствовать о нем), и улика, подобно другим уликам, исчезающая в конце. К тому же он сам жертва этой безжалостной истории, потому что потерпел фиаско, его провели, он потерял все, что только можно, и самое ужасное — украдены его фотографии! Покрывая собой любую роль, он не сливается ни с одной из них, оставаясь в положении знающего и в этом смысле находящегося над всем происходящим. Неудивительно, совпадая по положению с распростертой жертвой, он находит убитого по фотографии и собственной счастливой догадке — из положения лежа. Первые свои снимки, повешенные в студии, он, закурив, изучает, лежа на диване, и заканчивает свое детективное расследование в самом конце эротической сцены с Блондинкой и Брюнеткой, из горизонтального положения, узрев-таки наконец труп под деревом. Касаясь трупа в парке, он не только удостоверяется, что человек мертв, но и доводит идентификацию себя с жертвой до осязаемого завершения.
До убийства Томас был сам себе голова, полностью подчиняя все своей воле и творческим прихотям. Теперь же, должно быть как аллегория того, что художник не хозяин своим произведениям, он не властен даже над собственными снимками. Но в этой потере всего — акт высшего самоутверждения искусства. Художник золотой валютой объективного бытия своего творения платит за свое посмертное существование. Исчезновение ему не страшно.
Антониониевский принцип urbi et orbi задает Лондон, равный миру всех искусств: фотография (как главный столп и утверждение фильма Антониони) — кино (не переставая быть фотографией, ремесло и бойкое дело Томаса — это способ самосознания кинематографа) — театр (прежде всего мимы, но театром пронизано все) — живопись (живописная теория и практика Билла; превращение фотографии, благодаря фотоувеличению и рас- паду образов, в произведение абстрактной живописи) — музыка (“The Yardbirds”, джаз) — литература (над альбомом он работает на пару с писателем Роном) — перформанс (эротические игры Томаса с Блондинкой и Брюнеткой как сфера возможного и свободное пространство самореализации) — скульптура (пропеллер, который фотограф хочет установить дома как скульптуру) — архитектура (Лондон, выполненный в кирпично-сером неореалистическом колорите).
В книге “Тот кегельбан над Тибром” (1983) есть маленькое эссе “Report about myself”. Антониони спешит с примечанием: “Название, сам не знаю почему, сразу написалось у меня по-английски. На итальянском это могло быть так: “Отчет о себе самом”. Плохо. Или: “Рассказ о себе”. Смутно. Пусть остается, как есть”[12]. Разумеется, дело не в неточности родного языка, а в том, что итальянские воспоминания касаются прежде всего его первого англоязычного фильма 1966 года — “Blow-up”. “…Пару лет тому назад и не в том городе, где я живу сейчас. Я проходил мимо цветочного магазина и уже хотел заглянуть в него — нужно было послать кому-то цветы, — как человек, шедший впереди, метрах примерно в десяти от меня, вдруг остановился и поднял правую руку, на что-то указывая. Я тоже остановился, но, проследив взглядом линию от его пальца и дальше, ничего достойного внимания не увидел. Не было в том месте ни деревьев, ни встречающихся на городских окраинах опор высоковольтных линий, ни телеграфных столбов, ни дорожных щитов, ни куч мусора, ни машин, трамваев, пешеходов. Ничего. Точка эта находилась где-то в пустом — пустее не бывает — проеме между двумя зданиями. Странная вещь: было совершенно не похоже, что здесь только начинается окраина. Казалось, дальше, кроме пустоты, уже ничего нет.
На что же, черт побери, указывает этот человек?
Ему лет пятьдесят, он высок, широкоплеч и вот торчит, широко расставив ноги, в очень решительной позе, а его фуражка как-то еще больше подчеркивает грозную непреклонность жеста. <…> В тот день в солнечных лучах виднелся старый дом. В доме — магазин, один на все здание, по-видимому бакалейная лавка. Стена вокруг двери и витрины на ширину примерно одного метра свежевыкрашена молочно-белой краской, так что дверь, витрина и часть выкрашенной стены образуют квадрат — белый на белом, как у Малевича.
Какая-то женщина, выйдя из лавки, оставляет дверь открытой. Покачавшись немного, дверь замирает под таким углом, что мужчина отражается в ее стеклах, и теперь его указующий перст находит наконец свой “объект”. Им оказываюсь я. От этого во мне поднимается смутное раздражение, словно незнакомец осознанно тычет пальцем в меня, а не в дверь, стекло которой, отразив его жест, придает ему иное направление. Раздражение наводит меня на новую мысль. Почему это меня заинтересовал какой-то незнакомый человек, по совершенно непонятной причине ведущий себя столь нелепо? Мне даже хочется подойти и потянуть его за руку или направить на него (как в “Arroseur arros?”) [“Политый поливальщик” (франц.)] струю воды из шланга, с помощью которого мальчик-рассыльный поливает сейчас тротуар перед лавкой. И я действительно делаю шаг в его сторону. Но существуют способы, позволяющие подавлять извращенные желания. Один из них состоит в том, чтобы не позволять намерению превратиться в действие. И я прибегаю к нему. Но почему-то никак не могу оторвать глаз от мужчины. Все окружающее фокусируется для меня в его фигуре. Может, он приходит сюда ежедневно в одно и то же время и обличающе тычет пальцем в… ну, не знаю, в белый свет, то есть в пустоту, разверзшуюся там, за проемом? Но теперь у этой сцены появился некий новый смысл: выходит, обвиняемый — я. Самое интересное, что какое-то смутное сознание вины в глубине души у меня все- таки есть, я чувствую, как оно возникает, словно тень — этакая хичкоковская тень, ставящая под сомнение самое мою жизнь. <…> В витрине [цветочного магазина] полно цветов — они почему-то кажутся старинными — и узких, веретенообразных старомодных ваз метра в два высотой — как же я искал их во время съемок “Blow-up” для сцены с манекенщицами, но во всем Лондоне не удалось найти ни одной.
Из магазина доносятся тихое журчание воды (наверное, там фонтанчик) и аромат цветов. Нет, не аромат, а запах мокрых листьев и уже начавших подгнивать стеблей. Там, внутри, царит атмосфера смерти. Я приближаю лицо к витрине — так в церквах разглядывают через стекло гробы со святыми мощами — зрелище столь же отталкивающее — и вижу древних, усохших и бескровных старичков, которые сидят в зеленых плетеных креслицах и мирно беседуют. Их голоса — то самое журчание фонтана.
Еще раньше я заметил на пластмассовом крючке у двери небольшую карточку и подумал, что на ней указаны часы работы магазина, теперь же я читаю текст объявления: “Ветераны четвертого призыва приглашаются на дружескую встречу в городской ресторан в воскресенье, 18 сего месяца. Всех, родившихся в 1882 году, просим собраться у Бертини, в цветочном магазине на виа дель Конвенто, не позднее 12 текущего месяца”.
За неделю до этого я возвратился из Парижа, где Ролан Барт рассказал мне одну вещь, почему-то встревожившую меня, вызвавшую смутное чувство ментальной клаустрофобии, то есть ощущение полной безысходности. Из секретариата Collége de France, где он читал свои замечательные лекции, ему прислали список всех профессоров этого учебного заведения с указанием даты их выхода на пенсию. Одному из них, совсем еще молодому, предстояло выйти на пенсию в 2006 году.
— Впервые двухтысячный год стал как бы фактом и моей жизни, — заметил Барт, и в его голосе прозвучала не только свойственная ему ирония, но и грусть, которую он тотчас попытался подавить, как чувство в данной ситуации неуместное.
Не знаю почему, этот эпизод пришел мне на память, когда я стоял перед цветочным магазином. Еще раз взглянув на объявление о встрече ветеранов, я вдруг почувствовал себя зажатым между указанными в нем временными рамками: 1882 и 2006. Тут-то я и вспомнил о своей молодости, и у меня возникло страстное желание сделать фильм о ней, о себе, тогдашнем, от которого я все эти годы отворачивался — грубо и, пожалуй, неразумно.
Желание это длилось какую-то минуту. Но было оно, вероятно, не таким уж неодолимым, если, рассказывая о нем сегодня, я его больше не испытываю”[13].
Итак, в недавнем (по отношению к моменту рассказа) прошлом, оставшись один, в чужом городе, Антониони по случаю проходит мимо цветочного магазина и видит впереди человека, не без театральной значительности вздымающего правую десницу. Дейктическая загадка. Сама по себе поднятая рука ничего не значит, лишь обещает смысл: может быть, человек голосует, подзывая проезжающую машину, или подает знак старому знакомому, или даже, кто знает, щелкнет каблуками и выбросит руку в нацистском приветствии.
Но этот человек в конце концов предстает в роли дорожного знака. Он стоит и наглядно что-то демонстрирует. Но этот простой и понятный жест невероятно внутренне противоречив. Антониони тоже останавливается и, проследив взглядом линию от его указующего пальца, не видит там ничего. Это похоже на ложный финт. Место, куда направлен взгляд, описывается чисто апофатически: там нет ни деревьев, ни высоковольтных линий, ни телеграфных столбов, ни машин, ни трамваев, ни людей… Мужчина явно из разряда тех, что снимает для своего альбома Томас. Городской сумасшедший, каждый божий день приходящий на одно и то же место, чтобы фехтовать с пустотой. Он, как сломанный флюгер, знает только одну сторону света и не хочет знать ничего больше. Одинокое и ущербное удовольствие. Между тем, все это исполнено величайшего значения. Неизвестный, по словам Антониони, — центр и средоточие картины, ось всей композиции, но благодаря ему город пребывает под угрозой рухнуть в какую-то разверзшуюся прямо за домами бездну. А может, этот Дон Кихот — единственный, кто закрывает собой брешь и спасает город от окончательного сползания в бездну? Бог весть.
Вокруг сытным зерном рассыпаны знаки, и Антониони (как и Томас) одержим жаждой интерпретации, отыскания смыслов, стрелок и знамений фортуны. Все выстраивается и кристаллизуется вокруг незнакомца. Взмывшая рука — жест спонтанный и непредвиденный, как ланцетом рассекающий сросшиеся здания, но повторяющийся с завидностью ритуала ежедневно. Вернее было бы назвать его воздушным знаком, а не дорожным, — он направлен на то, что находится на небе, а не на земле, поэтому и сам хозяин жеста — на перекрестке воздушных путей, а не заткнут за пыльный пояс земного тяготения. Все куда-то спешат по своим нуждам, и только человек-знак взмывает над морем житейских забот и интересов, предаваясь бесполезному делу. Остенсивный жест предполагает точное и непосредственное указание на определенный объект, здесь же объекта нет, ничего не показано, вернее — показывается в буквальном смысле ничего. Демонстрировать можно кому-то, то есть для ситуаций подобного рода необходимо второе лицо, еще один персонаж. В данном случае его нет — человек не знает, что его поведение истолковано наблюдающим его Антониони как сообщение, а сам режиссер получатель оного. Это и сильное движение, и покой положения. С одной стороны, выставленный напоказ, парадоксальный жест указания, не указывающий ни на что, приобретает черты некоей статуарности, а с другой — не наталкиваясь на препятствие, проваливается в пустоту, выявляя весь показной характер своей обреченности и скорого несуществования. Ведь сколько ни приходи он туда и сколько ни тычь в дыру между домами, странного человека никто не замечает. Примелькавшийся, он стал частью привычного провинциального пейзажа, и до него никому нет дела, кроме… Антониони. Для Антониони это профетическая фигура, грозный жест, имеющий отношение ко всей его жизни (“этакая хичкоковская тень, ставящая под сомнение самое мою жизнь”). Имена Малевича, Хичкока, братьев Люмьер, кодирующих всю историю, успешно ирреализуют все происходящее и дальше — как будто речь идет о произведении искусства, а не о реальном воспоминании.
Этот незавершенный жест, подобный жесту акробата, продевающего руку сквозь обруч в цирке, не склеен с вербальным элементом, вроде “вон”, “там” или “смотрите!”. Образ незнакомца, равнодушного, как вечность, и пристрастного, как первый день творения, и предельно конкретен, и полностью развоплощен. Он вышел куда яснее и определеннее, чем образ рассказчика, но незнакомец все время грозит соскользнуть в небытие, потому что, будучи конфигурацией чистого указания, он придает смысл лишь тому, на что указывает, как бы лишаясь смысла сам по себе. И потом, демонстрируя ничто, по принципу политого поливальщика, он сам рискует раствориться в ничто.
Герой жестикулирует ничто, стругает уструг пустоты. Этот остенсивный ас пустоты, обживающий проем между двумя соседними зданиями, сам четырехуголен, не зря Антониони мыслит свои зрительные впечатления в терминах квадратов Малевича (“он высок, широкоплеч и вот торчит, широко расставив ноги, в очень решительной позе”). За рядом квадратных, опять же, зданий, без всяких переходов и окраин начинается такая заговоренная пустота, что пустее не бывает, как будто город повисает в ней, как планета в космическом пространстве.
Очевидно, что в той же перспективе ничто, в которой грозно и непреклонно существует незнакомец эссе, располагается точка, где исчезает главный герой “Фотоувеличения”, — fortissimo всех исчезновений фильма. Томас, заметим, занимает между двумя висящими снимками в своей мастерской то же положение, что и незнакомец между домами. Кроме английского названия эссе на этот фильм указывают вазы, которые видит Антониони в цветочном магазине (“…я искал их во время съемок “Blow-up” для сцены с манекенщицами”), но на самом деле он искал не вазы (это косвенная улика), а именно такую кооперацию с пустотой (хотя ваза, как и всякий сосуд, есть такая изящная форма пустоты и сотрудничества с ней). Но сначала все-таки о различиях между “Report about myself” и “Blow-up”.
В эссе никто не исчезает, в фильме — почти все. “Report about myself” — автобиографическая проза и рассказ о себе от первого лица, “Blow-up” же, сколько бы Антониони ни уверял, что это наиболее автобиографичный из его фильмов, — насквозь выдуманная история, источником которой послужил рассказ Кортасара “Слюни дьявола”. Геометрия эссе — квадрат, вплоть до супрематической квадратуры Малевича, фильма — круг. В эссе — прошлое, в фильме — чистое настоящее, аккуратно отрезанное от остальных времен.
Что бы и в каком роде он ни вспоминал, занят режиссер не воспоминанием, а поиском истины по иску сегодняшнего дня, осознанием и завершением смыслов, начавшихся тогда. Антониони превращает историческую хронологию в личностное время, интимную длительность. Промежуток между 1882 и 2006 годами — это его экзистенция, хотя обе даты изначально вводятся как куски чужого пирога и факты чужих биографий: 1882 — дата ветеранов четвертого призыва, родившихся в этом году; 2006 — дата из жизни Ролана Барта, узнавшего, что его молодой коллега в этом году уходит на пенсию. Сам Барт скончается в 1980 году. Антониони доживет до 2006 года и отойдет в мир иной в следующем году. Но обе даты, и 1882, и 2006, становятся не только напряженными границами его жизни, но и событиями и скрепами смерти. Антониони пишет свой автобиографический сборник новелл, когда Барт уже мертв — он попадет под машину 25 февраля 1980 года, в самом центре Парижа, недалеко от Коллеж де Франс, и через месяц скончается в больнице.
Ветераны четвертого призыва, родившиеся в 1882 году, собираются в цветочном магазине на виа дель Конвенто, который похож на гроб со святыми мощами; там царит атмосфера смерти, запах цветов смешивается с тяжелым ароматом разложения, а древние старички сидят в зеленых плетеных креслицах и мирно беседуют. Ролан Барт же так остро переживает 2006 год, потому что тогда он точно будет мертв. Грусть связана не с тем, что двухтысячный год впервые стал фактом его жизни, — факт чужой жизни стал языком, на котором заговорила смерть Барта сейчас, безотлагательно, при его жизни. Но сам Антониони, зажатый между двумя границами смерти, жив как никогда. Но чтобы почувствовать себя живым, из этих границ приходится выбираться с величайшим трудом. Жуткое чувство безысходности и ментальной клаустрофобии, о котором говорит Антониони, охватывает его потому, что он глядит не только сквозь стекло во гроб, но и из гроба наружу, чувствуя себя заточенным и мертвым — это состояние подсказано Бартом, но его ироническая грусть сменяется загробным ужасом (и есть от чего – ведь захоронен заживо). Слава богу, из этого склепа можно высвободиться и покинуть его.
Промежуток между 1882 и 2006 годами — это то же самое, что проем между домами, который, как занавес упрямою рукою, распахивает таинственный незнакомец эссе. Толща времени, раздвигаемая плечами переживания, пульсирующий промежуток, гортань для голоса, подвес, который не вне, а в сердцевине всех событий, дышит таинством смерти, превратившей безличные цифры в трепетные одухотворенные даты.
Между прошлым и настоящим — разрыв, где по закону “Дня сурка” нельзя просто так перейти из сегодняшнего дня в завтрашний — нужны дополнительные усилия и обстоятельства личностного свойства. В месте разрыва возникает свобода, поскольку свобода и есть человеческое бытие, оставляющее прошлое не у дел и выделяющее, как голодная пасть жадную слюну, свое собственное ничто, с ясным сознанием того, что ничего не пере- носится на завтра, все свершается (или не свершается) здесь и сейчас.
Какая-то женщина, выйдя из бакалейной лавки, оставляет дверь открытой. Дверь замирает под таким углом, что мужчина отражается в ее стекле, и теперь его остроумный перст указывает на Антониони. Случайный ли это отскок и досадный слом перспективы или благодаря зеркальному отражению жест незнакомца наконец находит свой истинный объект? Может быть, остенсивный жест искал именно его? Может быть, это не отражение законченного жеста, а завершение его? И единый образ слагается из остенсивного жеста незнакомца и его зеркального преломления в двери? Возможно ли, чтобы не незнакомец указывал на пустоту, а пустота с помощью незнакомца на Антониони? Режиссер, городской сумасшедший и ничто — части одного целого, фаланги одной жестикулирующей рефлексии, мистерия единого самосознающего начала. Report about myself! “Я” сродни ничто. Объемля все и ничего, “я” в эссе Антониони может быть приведено в предикативную связь со всем и в этом смысле объемлет все, но оно же связано и с ничто, поскольку само оно не есть что-нибудь в мире (нет такого предмета, как “я”).
Антониони занимает место пустоты между домами, как бы одалживая ничто свое тело, и это происходит так же, как в “Фотоувеличении”, где режиссер появляется ровно в том месте, где исчез его главный герой. Но здесь два конца и два полюса одного и того же акта: ничто, наполняемое бытием, носящим имя Антониони, и бытие, опустошаемое ничто.
1) Текст печатается в сокращении. Автор бесконечно благо дарен лондонской журналистке и переводчице Анне Асланян, без которой этот анализ вообще бы не случился.
2) Барт Р. Camera lucida / Пер. с фр., послесл. и коммент. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 45.
3) Джойс Д. Улисс / Пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего. М.: Республика, 1993. С. 31.
4) Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 300.
5) Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. С. 130—131.
6) Д’Удин Ж. Искусство и жест / Пер. с фр. кн. Сергея Вол- конского. СПб., 1911. С. 12.
7) Забавно, что лишь два персонажа фильма фигурируют под своими именами — это фотомодель Верушка фон Лендорф и британская рок-группа “The Yardbirds”, в которой начинали свою карьеру известные гитаристы — Эрик Клэптон, Джефф Бек и Джимми Пейдж.
8) Об избыточности см.: Амелин Г. Лекции по философии литературы. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 34—46.
9) Уайльд О. Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь; Киплинг Р. Стихотворения. Рассказы. М., 1976. С. 130.
10) Джойс Д. Улисс. С. 31.
11) Ямпольский М. Открытость как неопределенность: За- метки о пустоте в кинематографе Антониони // Сеанс. 2007. № 33-34. С. 288.
12) Антониони об Антониони. М.: Радуга, 1986. С. 304.
13) Там же. С. 304—307.
В КиноКлубе программа памяти Антониони и Бергмана
Вслух.ру
7 декабря 2007, 06:52
В Кино Клубе академии культуры 14 декабря завершается сезон мульфильмов. С 21 декабря начинается новая программа, посвященная памяти двух величайших художников ХХ века, Ингмару Бергману и Микеланджело Антониони. Они ушли в один день — 30 июля нынешнего года. Каждый из двух гениальных кинорежиссеров вслед за Томасом Манном с полным правом мог сказать о себе: «Европейская культура там, где я». В рамках программы КиноКлуба творчество Микеланджело Антониони будет представлено картинами «Фотоувеличение» (Blowup, 1966) и «Профессия — репортер» (Пассажир, 1975). Фильм «Фотоувеличение» является одним из ярчайших ТЕКСТОВ на тему соотношения текста и реальности, главную тему ХХ века. В фильме «Профессия — репортер», поместив зрителей в иллюзию, Антониони начинает ее планомерно разрушать, выталкивая зрителей в реальность самыми виртуозными и головокружительными способами. О фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать» французский критик и режиссер Эрик Ромер сказал» «Редкий фильм так высоко метит и так полно осуществляет намеченное». Фильм «Седьмая печать» (1956) — аллегория на тему: вечные поиски человеком Бога и смерть как единственное, в чем нет сомнения. Позднейший психологический шедевр Бергмана «Осенняя соната» (1977) — история о вечном конфликте: приносить ли человеческие чувства в жертву искусству. 21 декабря — «Фотоувеличение» (Blowup; Великобритания-Италия, 1966). В главных ролях: Дэвид Хеммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлс, Джейн Биркин. 28 декабря традиционное заседание КиноКлуба ТГАКИ: французская романтическая комедия накануне Нового года: «Наука сна» (2006). Режиссер — Мишель Гондри. 11 января «Профессия — репортер» (Франция-Италия-США-Испания, 1975). В главных ролях: Джек Николсон и Мария Шнайдер. 18 января — «Седьмая печать» (Швеция, 1956). В главных ролях: Макс фон Сюдов, Биби Андерссон, Гуннар Бьорнстранд. 25 января — «Осенняя соната» (ФРГ-Франция-Швеция, 1977). В главных ролях: Ингрид Бергман, Лив Ульман. Заседания КиноКлуба проходят в учебном корпусе академии искусств и культуры по адресу ул. Республики, 2, аудитория 210. Заседания КиноКлуба ТГАКИ проходят каждую пятницу в 17.30. Справки по телефону: 24−19−16.
Не забывайте подписываться на нас в Telegram и Instagram.
Никакого спама, только самое интересное!
Profile Name: Дмитрий Быков, писатель и журналист Entry Tags «50», «Американец», «Блаженство», «Блуд труда», «Бог резни», «Большие пожары», «Бремя чёрных», «Был ли Горький?», «В мире животиков», «Вместо жизни», «Внеклассное чтение», «Время потрясений», «Всё о Золушке», «ДБ и все-все-все», «Дембель», «Думание мира», «Если нет», «ЖД», «ЖД-рассказы», «ЖЗЛ: Анна Ахматова», «ЖЗЛ: Борис Пастернак», «ЖЗЛ: Булат Окуджава», «ЖЗЛ: Владимир Маяковский», «ЖЗЛ: Максим Горький», «Жалобная книга», «Живой», «Заразные годы», «Зверьки и зверюши», «Икс», «Истина», «Истребитель», «Июнь», «Как Путин стал президентом США», «Календарь», «Карманный оракул», «Квартал», «Литературное ориентирование», «Любовный интерес», «Любовь и Смерть», «Медведь», «Мужской вагон», «На пустом месте», «На самом деле», «Ничья», «Новые и новейшие письма счастья», «Новые русские сказки», «Нулевые итоги», «Океан», «Оправдание», «Орфография», «Остромов», «Отчёт», «Палоло или Как я путешествовал», «Песнь заполярного огурца», «Письма счастья», «Последнее время», «Последний ветеран», «Приключения в Волшебном лесу», «Прощай кукушка», «Пятое действие», «Сигналы», «Синдром Черныша», «Сны и страхи», «Советская литература», «Списанные», «Стихи и проза», «Тайный русский календарь», «Телега жизни», «Хроники ближайшей войны», «Шереметьево-3», «Шестидесятники», «Школа жён», «Эвакуатор», «Я вомбат», «Ясно», 5-Й КАНАЛ, SHORT-ЛИСТ, \»Был ли Горький?\», arzamas, bullshit, citizen k, cosmopolitan, diletant, ebooks, el comandante, gq, gzt, help!, itv, iНОСТРАНЕЦ, katia kapovich, moulin rouge, my god it’s full of stars, nashorn, openspace, point, psychologies, pärchen, sex and the city, slon, story, stressed out!, veranstaltungen, «Нах-Нах», ЁС, АПН(НН), АРДИС, БИТВА РОМАНОВ, БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР, ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ, ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА, ВОКРУГ СВЕТА, ВРЕМЕЧКО, ВРЕМЯ И МЫ, ВСЁ БЫЛО, ГАЗЕТАRU, Господин хороший, Гражданин поэт, ДИЛЕТАНТ, ДОЖДЬ, ДР, ДРУЖБА НАРОДОВ, ЖЗЛ с Дмитрием Быковым, ЖИВАЯ ИСТОРИЯ, ЖИЗНЬ КАК В КИНО, Журнальный зал, ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ, ИЗВЕСТИЯ, ИНДЕКС, ИСКУССТВО КИНО, ИТОГИ, КАРТИНА МАСЛОМ, КАРЬЕРА, КОЛБА ВРЕМЕНИ, КОММЕРСАНТЪ-FM, КОМОК, КОМПАНИЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА, КОНСЕРВАТОР, КП, КРЕСТЬЯНКА, КСО, ЛИТЕРАТУРА, ЛИТЕРАТУРА ПРО МЕНЯ, ЛИЦА, МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ, МЕДВЕДЬ, МОСКОВСКАЯ КОМСОМОЛКА, МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ, НЕВА, НЛО, НОБЕЛЬ, НОВАЯ ГАЗЕТА, НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ В КЛАССИКЕ, НОВЫЕ ПИСЬМА СЧАСТЬЯ, НОВЫЙ МИР, ОБЩАЯ ГАЗЕТА, ОГОНЁК, ОДИН, ОСОБОЕ МНЕНИЕ, ОТКРЫТЫЙ УРОК, ПАНОРАМАTV, ПОЛИТ.ru, ПОСЛЕЗАВТРА, ПРОФИЛЬ, Поэт и гражданин, РАДИО СВОБОДА, РОСБАНК, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, РУССКАЯ ЖИЗНЬ, РУССКИЙ ЖУРНАЛ, РУССКИЙ ПИОНЕР, САКВОЯЖ СВ, СЕАНС, СИТИ-FM, СНОБ, СОБЕСЕДНИК, СТО ЛЕКЦИЙ, СТОЛИЦА, ТРУД, ФАС, ФОКУС, ЧТО ЧИТАТЬ, ШДБ, ШКОЛА ЖИЗНИ, ЭКСПЕРТ, ЭХО МОСКВЫ, ЭХО ПЛАНЕТЫ, архивное, аудио, бумажные издания, видео, дякую тобі боже що я не москаль!, интервью, картинки, комментарии, лекторий ПРЯМАЯ РЕЧЬ, лекции, мех, некий Андрей Гамалов, опрос, переводы, планы, премии, радио-эфиры, репортаж, рецензии, рубашка, рубашка 2, скандальчики, слухи, стихотворения, театр, тексты Быкова, теле-эфиры, фотографии, чужое мнение, نيكا Links Дмитрий Быков пишет для: Дмитрий Быков на радио и теле: в помощь модераторам: |
Окончательный диагноз – Weekend Украина – Коммерсантъ
Рекомендует СЕРГЕЙ Ъ-ВАСИЛЬЕВ
Микеланджело Антониони умер в своей римской квартире в конце июля, не дожив двух месяцев до 95-летия, буквально через несколько часов после того, как из Швеции пришло известие о смерти Ингмара Бергмана. Кто бы ни откликнулся на это трагическое сообщение, обязательно говорил о «мистическом совпадении». Действительно, Антониони и Бергман были, по существу, последними из когорты великих режиссеров XX столетия, чьи визуальные открытия и грандиозные экзистенциальные прозрения продолжает перепевать и тиражировать современный кинематограф. При этом любопытно, что к творчеству друг друга они относились довольно прохладно. Максималист и язва Антониони считал своего шведского коллегу занудным моралистом, беспристрастный и жесткий в суждениях Бергман, высоко ценя снятые итальянцем «Ночь» и Blow-up («Фотоувеличение») все же, морщась, замечал, что Антониони «запутался в своей тоскливости», а его музу — Монику Витти — вообще однажды обозвал «скверной актрисой». Правда же состоит в том, что оба режиссера представляли безупречно совершенные художественные системы и размышляли в своих картинах на очень схожие темы. Просто способ высказывания, одинаково мощный и совестливый, у каждого из них был свой. Потому, собственно, их при жизни и причислили к классикам.
Оба они с середины 80-х практически не снимали новых фильмов. Бергман сосредоточился на работе в театре, а позже, уединившись в своем доме на острове Форе в Балтийском море, полностью посвятил себя писательству. Антониони, лишившись речи после инсульта в 1985 году, тоже чрезвычайно редко появлялся на съемочной площадке. Хотя в 1995 году и сумел с помощью своего друга и, возможно, самого верного последователя Вима Вендерса снять по собственной книге фильм «За облаками», а три года назад — нежную новеллу для киноальманаха «Эрос». Но даже молчание этих великих мастеров было многозначительно. Их отречение от главного дела жизни казалось весьма символичным.
Действительно, трудно избавиться от мысли, что и Бергман, мучительно исследовавший в своих фильмах отношения человека с богом, и Антониони, в своих главных картинах описывающий фатальное одиночество человека в агрессивно равнодушном к нему мире, не случайно словно замерли, брезгливо остановились на пороге эпохи, где диктовать правила и вкусы стал массовый человек. Дело не только в том, что этот герой нового времени редко задается экзистенциальными вопросами и во всем жаждет ясности и простоты, а значит, заведомо с недоверием и даже опаской относится к явлениям искусства, заставляющим его размышлять, сопереживать и сомневаться,— в конце концов, в момент появления даже лучшие ленты Антониони порой освистывались, высмеивались и с большим трудом находили контакт со зрителем. Дело в ином: как и Бергман, Антониони силой своей гениальной художественной интуиции, по сути, нащупал все болевые точки грядущего «дивного, нового мира». Общества глобализма, где превращенный в потребительскую единицу индивид оказывается обреченным на душевную изоляцию. Собственно, об этом рассказал итальянский режиссер в своей знаменитой трилогии «Приключение» (1960), «Ночь» (1961), «Затмение» (1962). Об этом — тотальной некоммуникабельности, непосильной ноше судьбы, иллюзорности свободы — снял свои картины «Красная пустыня» (1965) и «Профессия: репортер» (1974). Даже в явно инспирированных молодежным бунтом 60-х и идеологией хиппи шедеврах «Фотоувеличение» (1967) и «Забриски Пойнт» (1969) он безжалостно продолжал фиксировать потерянность личности в современном обществе, которое, возможно, заслуживает финальных кадров «Забриски Пойнт», когда девушка после гибели своего парня ненавидящим взглядом разрушает и уничтожает в огне окружающий ее мир.
За эту беспощадную социальную прямоту фильмы Антониони привечали в Советском Союзе и даже, пусть в урезанном виде, выпускали в широкий прокат. В обществе, где частная жизнь постоянно находилась под присмотром, страдающие от отчуждения и некоммуникабельности герои «Красной пустыни» или «Фотоувеличения», по мысли идеологов, иллюстрировали фальшивое благополучие западного мира. Но мир для Антониони был неделим. И невозможность человека приспособиться к социуму он констатировал и в Британии, где снимал «Фотоувеличение», и в Америке, которую оскорбил «Забриски Пойнт», и в Китае, где был объявлен персоной нон грата после создания документальной ленты о маоистской Поднебесной. Планировал режиссер снять фильм и в СССР, даже специально путешествовал по Средней Азии со сценаристом Тонино Гуэррой. Проект сорвался — советское кинематографическое руководство проявило завидную осмотрительность, решив, что пусть уж лучше «изобретатель неореализма», как в шутку называл себя сам Антониони, разоблачает «пороки западного общества». Впрочем, пересматривая сегодня его фильмы, убеждаешься в том, что режиссер, снимая их, меньше всего думал о социальной диагностике. Его понимание мира, в котором человек обречен на беспросветное одиночество, было куда трагичнее.
«Киев» / с 4 октября
Микеланджело Антониони. Взгляд, который изменил кинематограф: ana_lee — LiveJournal
Микеланджело Антониони. Взгляд, который изменил кинематограф/
Michelangelo Antonioni. Lo sguardo che ha cambiato il cinema
Документальный фильм (Италия, 2001)
Над фильмом работали: Лелло Берсани, Карло ди Карло, Маурицио Костанцо, Лучано Луизи, Джани Мина, Винченцо Моллица, Пьетро Пинтуз, Серджио Заволи
Микеланджело Антониони — режиссер, создавший целую эпоху в мировом кинематографе. Его называли «патриархом итальянской режиссуры», «академиком киноживописи», «поэтом с камерой в руках». Антониони был классиком неореализма. За свои фильмы он получал призы Каннского, Венецианского, Берлинского и других кинофестивалей. В этой документальной ленте режиссер рассказывает о своем кино, рассуждает о времени, делится различными впечатлениями. Зритель становится свидетелем мгновений сомнений и триумфа мастера. На протяжении многих лет режиссер поражал своими картинами, всегда оставаясь предельно искренним, но не всегда до конца понятным.
«Я не думаю, что фильмы нужно снимать ради зрителей, денег или популярности. Фильмы, по-моему, нужно снимать ради красоты, и это, как мне кажется, лучший способ быть искренним в своей работе», — говорил Микеланджело Антониони.
«Сделать фильм – не роман написать. Флобер говорил, что умение жить никогда не было его ремеслом; ремеслом же было писание. Делать фильм – наоборот – означает жить. Для меня, по крайней мере. (Эта отсылка придает моей мысли особую значительность, так она становится очевиднее). Работа над фильмом никогда не прерывала мою личную историю, напротив, именно тогда жизнь моя становилась особенно интенсивной, наполненной. Разве эта тончайшая чувствительность, тот или иной способ, которым мы создаем собственную биографию, все вино наше – в бочку фильма, не есть обогащение (или оскудение, что зависит) внутренней страны, о богатстве ли, бедности которой, не нам судить? Конечно, фильм – спектакль для публики. И значит, частные дела наши, в него вложенные, становятся видимыми для посторонних. И вот, что я чувствую сегодня. Сегодня, в тяжелое время больших дел, опасений, страхов, касающихся всего в мире, мне кажется, что говорить о некоторых вещах – нельзя. Нельзя именно потому, что мы, люди кино, обречены вечно лишаться всего. У нас нет более права делать вид, что наша частная жизнь – по-прежнему наша частная жизнь. В прочитанной сегодня статье цитата из Жироду: «Иногда о деревьях не говорят, потому что против деревьев восстают». Наименее благородное, что интеллектуал может сделать в эпоху больших изменений – продолжать развлекаться иным (…) Во время войны не было неореализма, как не было сразу после. Пламенеющая реальность и дала жизнь тому, что критики потом нарекли неореализмом. Я верю, что сегодня – то же, климат схож. Я не думаю о том, какие фильмы мы могли бы снимать, мне это безразлично. Я чувствую, что есть нечто, что мы должны охранять – разум внутри этой реальности. И не уступать ленности ума и конформизму большинства.» — Микеланджело Антониони, Ed Seghers, 1962
Микеланджело Антониони и Джек Николсон
Микеланджело Антониони родился в итальянском городе Феррара 29 сентября 1912 года. Окончив школу, он поступил в Болонский университет, где некоторое время занимался филологией, но затем заинтересовался экономикой и получил диплом экономиста. Во время учебы в университете он писал рецензии на фильмы для местной газеты. Увлечение кино привело к тому, что к 1939 году Антониони решил посвятить свою жизнь кинематографу. Он переехал в Рим, где начал изучать режиссуру. В 1942 году Антониони принял участие в написании сценария фильма Роберто Росселлини. В 1943 году работал ассистентом режиссера. Тогда же Антониони снял свой первый фильм. Это была короткометражная документальная лента «Люди с реки По», в которой рассказывается о жизни североитальянских рыбаков. Антониони говорил о своей дебютной картине: «Раньше не снимали документальные фильмы о простых людях, это было запрещено при фашизме. Интерес к рыбакам По – к людям, которые живут в устье реки, в деревнях, которые всегда затапливает, когда вода поднимается, – был немыслим при фашизме. То, что я взялся за это, было важно само по себе, и, наверное, предвосхитило то, что потом назвали итальянским неореализмом. Но я хочу сказать, было очевидно, что камера должна заглянуть в этот мир, запечатлеть эти социальные проблемы. Я ничего не открыл, я просто показал то, что было вокруг».
В 1950 году Микеланджело Антониони снял свой первый полнометражный фильм «Хроника одной любви». В 1955 году появились ленту «Подруги», картина, которая в том же году на Венецианском кинофестивале получила «Серебряного льва». Актриса Валентина Кортэзэ считает этот фильм одной из самых удачных работ мастера. В документальном фильме «Взгляд, который изменил кинематограф» она говорит: «Мы все старались сыграть как можно лучше, вложить в этот фильм все, на что способны».
В конце 1950-х — 1960-е годы в фильмах Антониони снималась актриса Моника Витти, с которой режиссера связывали близкие отношения. Антониони взял Монику Витти на главную роль в «Приключении». Фильм получил приз жюри на Каннском кинофестивале и принес режиссеру мировую известность. Затем вышли «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня», где также играла Моника Витти.
Вспоминая о работе над картиной «Ночь» режиссер говорил: «Над «Ночью» я работал год. Мой фильм – о вечеринке. Среди гостей – женатая пара, вокруг которой и крутится история. Ночью атмосфера портится. А потом, когда встает солнце, снова наступает мир. Но между этой парой произошло что-то серьезное. Они увидели себя и друг друга иными глазами и поняли, что очень легко все разрушить и сдаться. В общем, речь о том, что следует охранять свои чувства очень бережно, потому что чувства между мужчиной и женщиной — это то, что может спасти современный мир».
«Красная пустыня» — первый цветной фильм Антониони. Вдова режиссера Энрика Фико вспоминает, что перед началом работы над «Красной пустыней» Антониони играл с цветом на бумаге, чтобы посмотреть, как выглядит зеленый рядом с сиреневым, красный – с синим.
В 1966 году в Лондоне режиссер поставил картину «Фотоувеличение». Она принесла большой коммерческий успех Антониони и была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. В 1970 году Микеланджело Антониони снял «Забриски Пойнт», в 1975 — фильм «Профессия — репортер», где главную роль сыграл Джек Николсон.
На главную роль в телевизионном фильме «Тайна Обервальда» Антониони вновь пригласил Монику Витти. В то время мастер также экспериментировал в области рекламы и видеоклипов.
В 1985 году Антониони перенес инсульт, который привел к параличу половины тела и потере речи. А в 1986 году режиссер женился на Энрике Фико.
Энрика исполнила роль второго плана в его фильме 1982 года «Идентификация женщины», истории о сорокалетнем режиссере, который пытается найти идеальную женщину. В фильме «Взгляд, который изменил кинематограф» Антониони размышляет: «Мои годы говорят о том, что я уже зрелый человек. В «Идентификации женщины» нет героев в состоянии кризиса. Здесь герои обнаруживают кризис общества, в котором они живут. Это выражено в профессии человека, в том, как две девочки создают свою индивидуальность, и в попытке режиссера передать характеры в фильме, который он представляет себе довольно расплывчато. Все фильмы рождаются из хаоса ума режиссера, если это его история, или возникают из потребности отразить истории, написанные другими».
В течение десятилетия после инсульта Антониони не ставил полнометражных картин. Только в 1995 году при помощи немецкого режиссера Вима Вендерса был снят новый фильм Антониони — «За облаками» по мотивам его книги 70-х годов. Потом было еще несколько картин. В 2004 году при помощи Стивена Содерберга и Вонга Кар-Вая Микеланджело Антониони снял новеллу «Опасная связь вещей» для фильма «Эрос», которая стала его последней работой в кино.
Использованы материалы документального фильма «Микеланджело Антониони. Взгляд, который изменил кинематограф»
Профессия: Репортер (1975)
Антониони и Джек Николсон на съемках «Профессии: Репортер» (1975)
Антониони и Мария Шнайдер
«Сделать фильм – не роман написать. Флобер говорил, что умение жить никогда не было его ремеслом; ремеслом же было писание. Делать фильм – наоборот – означает жить. Для меня, по крайней мере. (Эта отсылка придает моей мысли особую значительность, так она становится очевиднее). Работа над фильмом никогда не прерывала мою личную историю, напротив, именно тогда жизнь моя становилась особенно интенсивной, наполненной. Разве эта тончайшая чувствительность, тот или иной способ, которым мы создаем собственную биографию, все вино наше – в бочку фильма, не есть обогащение (или оскудение, что зависит) внутренней страны, о богатстве ли, бедности которой, не нам судить? Конечно, фильм – спектакль для публики. И значит, частные дела наши, в него вложенные, становятся видимыми для посторонних. И вот, что я чувствую сегодня. Сегодня, в тяжелое время больших дел, опасений, страхов, касающихся всего в мире, мне кажется, что говорить о некоторых вещах – нельзя. Нельзя именно потому, что мы, люди кино, обречены вечно лишаться всего. У нас нет более права делать вид, что наша частная жизнь – по-прежнему наша частная жизнь. В прочитанной сегодня статье цитата из Жироду: «Иногда о деревьях не говорят, потому что против деревьев восстают». Наименее благородное, что интеллектуал может сделать в эпоху больших изменений – продолжать развлекаться иным (…) Во время войны не было неореализма, как не было сразу после. Пламенеющая реальность и дала жизнь тому, что критики потом нарекли неореализмом. Я верю, что сегодня – то же, климат схож. Я не думаю о том, какие фильмы мы могли бы снимать, мне это безразлично. Я чувствую, что есть нечто, что мы должны охранять – разум внутри этой реальности. И не уступать ленности ума и конформизму большинства.»
Микеланджело Антониони, Ed Seghers, 1962
Антониони и Моника Витти на съемках «Красной пустыни»
На съемках «Фотоувеличения»
Антониони и Дэвид Хэммингс на съемках «Фотоувеличения»
Антониони и Натали Вуд
Микеланджело Антониони и Федерико Феллини, Канны, 1971
Моника Витти, Жан-Луи Трентиньян и Микеланджело Антониони
Антониони и Моника Витти
Хроника одной любви (1950)
Лючия Бозе в фильме «Хроника одной любви»
Подруги (1955)
Крик (1957)
Три лица (1965)
Приключение (1960)
Ночь (1961)
Антониони и Жанна Моро на съемках фильма «Ночь»
Затмение (1962)
Забриски Пойнт (1969)
Идентификация женщины (1982)
ССЫЛКИ:
Красная пустыня — Майя Туровская о фильме «Красная пустыня» Микеланджело Антониони. «Искусство кино» № 10, октябрь 1965 года.
Открытость как неопределенность — ЗАМЕТКИ О ПУСТОТЕ В КИНЕМАТОГРАФЕ АНТОНИОНИ. Михаил Ямпольский
Ночь
Микеланджело Антониони — биографическая статья в Википедии
Фильмография
Микеланджело Антониони и «реальность» модерна — за кадром
Концепция Модерна получает два различных, но взаимосвязанных определения. Первое определение обычно является наиболее распространенным и широко используется для обозначения сегодняшнего дня. Второе определение заимствовано из первого, но более конкретно относится к социальным и культурным движениям, которые стремятся порвать с классическими и традиционными представлениями о сплоченности, прогрессе и структурах и изменить их. Роджер А.Салерно предположил, что Модерн можно разбить на Модерн или Модернизм, первый из которых относится к социальным конструкциям, окружающим определенный «образ жизни», а второй относится к культурному движению, которое возникает из этих социальных конструктов. [1] Хотя такая дифференциация полезна, ее также недостаточно. Например, фильмы Антониони можно найти как в отношении модернизма, так и современности. Что составляет элементы модерна в социальной структуре? А каковы элементы модернизма в искусстве? Юджин Ланн сузил определение до четырех объединяющих аспектов, общих для большинства модернистских эстетических методов: самосознание; Одновременность или сопоставление; Двусмысленность; и дегуманизация интегрированного индивидуального субъекта или личности.[2] Четыре аспекта Ланна очень тесно взаимосвязаны: ни один аспект не появляется в одиночку; каждый аспект всегда сопровождается тремя другими. Однако четырех аспектов Ланна никоим образом недостаточно для объяснения сложной динамики Модерна. Модерн (наряду с Модернизмом и модернизмом в равной степени) и его эстетические воплощения дискурсивно конструируются посредством множества конкурирующих сил, каждая из которых пытается понять другие дискурсивные конструкции. Они ни в коем случае не имеют смысла сами по себе.Скорее, они последовательны только при сравнении с другими концепциями в рамках дискурсивной структуры.
Понятно, что концепция Модерна многогранна и не может быть упрощена до краткого перечня характеристик. Соответственно, все, что создается в Модерне, также разделяет эту сложность. Безусловно, подходы Соларно и Ланна необходимо объединить. Используя книги Микеланджело Антониони Il Grido (1957), L’Avventura (1960) и L’Eclisse (1962) как изложение тонкостей модерна, это эссе исследует четыре аспекта эстетики модернизма Лунна и Салерно. разделение модерна на модернизм и современность.
Самосознание, одновременное сопоставление
Из-за круговых узоров, образующих повествовательные структуры, фильмы Антониони обладают как самосознанием, так и элементами одновременности. Например, в Il Grido мы следуем за Альдо от башни (где мы впервые встречаем его) до хижин на пляже (ближе к концу фильма) и обратно к башне. Уже в полной структуре повествования появляется круговой узор.Однако Антониони также повторяет это понятие на протяжении более коротких эпизодов фильма. В каждом эпизоде Альдо может влюбиться в четырех разных женщин. В каждой из этих сюжетных линий повторяется повествовательная структура, а также темы изоляции, безэмоциональности, депрессии, модернизации — сельское хозяйство против урбанизма или природа против индустриализации — и сексуальности.
Вместе с Ирмой Альдо впервые сталкивается с разлукой со своими традиционными представлениями о семейной жизни.В этой встрече старые традиции перестают существовать. Отношения Альдо и Ирмы совсем не традиционные, это супружеские отношения. Решение Ирмы прекратить их отношения приводит к возмущению Альдо на Ирму перед общественностью. Альдо теряет контроль над своими эмоциями, потому что понимает, что его реальность не так стабильна, как он первоначально думал. Начав чувствовать себя изолированным в своем доме и сообществе, Альдо решает уйти в поисках более стабильной жизни. С другой стороны, это решение также можно прочитать как просто бегство Альдо от своих проблем.Независимо от того, что рассуждает Альдо, темы разделения, изоляции, безэмоциональности (решение Ирмы расстаться с Альдо в то время, когда их отношения должны стать приемлемыми, и решение Альдо оставить свои эмоции и попытаться найти место, где он это сделает. не нужно думать о них), и модернизация (фальсифицированные отношения Ирмы и Альдо) уже осуществлены.
Затем в хронологическом порядке мы встречаем Эльвиру, которая также чувствует себя изолированной. У нас возникает ощущение, что Эльвира чувствует себя одинокой и подавленной.Мы начинаем думать, что Альдо может стать таким, как она, что его чувство изоляции сменяется депрессией. Кроме того, в Эльвире мы также обнаруживаем, что вероятность стабильности семьи сомнительна. Вдобавок к этому Антониони связывает эти проблемы с модернизацией долины По, где живут эти персонажи. Модернизация делает старые традиции невидимыми или нечеткими. Альдо и Эльвира рассматриваются как два человека, пойманные между старым традиционным поиском любви и новой реальностью, которая делает этот поиск недостижимым.
После визита Альдо в Эльвиру в Вирджинии исследуются те же темы, что и независимость в отношении собственной жизни. Однако в Вирджинии мы находим персонажа, который охотно модернизирует свою жизнь, но точно так же теряет свободу, чтобы жить так, как ей заблагорассудится. Хотя она кажется более автономной, Вирджиния также менее свободна покидать заправочную станцию. Антониони иронично связывает привязанность Вирджинии к заправочной станции с удалением дерева на месте ее старой фермы.Казалось бы, обычная реакция Вирджинии — разочарование на протест отца против сноса дерева — показывает ее отношение к своей реальности. Она говорит Альдо, что хочет уехать за горы, но все же предпочитает владеть заправочной станцией, где, по ее мнению, больше безопасности.
Наконец, Альдо заканчивает свое путешествие на север после встречи с Андреиной, проституткой, которая больше всех желает принять изменения, связанные с модернизацией долины По. Единственное, что важно для Андреины, — это убедиться, что к концу дня у нее будет еда.Ее готовность продать свое тело для секса показывает, что ей не нужно искать любви в традиционном смысле, который ищут все другие персонажи. Ее даже можно описать как человека, лишенного эмоций. Ее отношение к сексу подчеркивает темы безэмоциональности и сексуальных импульсов, которые мы наблюдали по отношению ко всем другим женщинам. В то время как остальные женщины относятся к сексу как к выражению романтики, Андрейна рассматривает секс как товар. У Андреиной секс доходит до нежелательного ощущения механизации.Именно это произошло с окружающей средой в связи с модернизацией долины По.
Адрейна и вторжение коммерции в сексуальность.
Структурно в этих примерах мы можем увидеть, как элементы одновременности представлены в тех же случаях, где также можно найти круговые паттерны. Путешествие Альдо по долине реки По приводит его к трем ситуациям, в которых в каждом эпизоде женский персонаж используется, чтобы раскрыть динамику тем изоляции, одиночества, модернизации и романтики.Результатом является сопоставление повторяющихся ситуаций, встречающихся в объединяющих темах, а также использование параллельных сюжетных линий — потенциальных возможностей для романтических отношений между Альдо и Ирмой, Эльвирой, Вирджинией или Андреиной соответственно. Как зрители мы осведомлены об используемых циклических моделях. Благодаря круговым узорам и сопоставлению этих объединяющих тем и параллельных сюжетов эти два аспекта определения модернистского искусства Ланном возникают в Il Grido .
Двусмысленность, дегуманизация: реализация современности
Наиболее заметные примеры двусмысленности, третья современная эстетика Ланна, встречаются в концовках Il Grido , L’Eclisse и L’Avventura , где мы не уверены в намерениях персонажей.Совершил ли Альдо в Il Grido самоубийство или он был настолько захвачен неуверенностью, что потерял равновесие и упал? Чувствовала ли Клаудия прощение в L’Avventura? Согласилась ли она с Сандро или с обоими? И точно так же, почему Виттория и Пьеро не встретились в конце L’Eclisse? Знали ли они, что они лгали друг другу, или они оба случайно вспомнили, что у них были другие предыдущие помолвки? Антониони даже оставляет место для двусмысленности в своих намерениях в фильмах: они о моральном разложении? Критика высшего класса? Анализ технологического воздействия на человеческий разум? Экологический протест по поводу воздействия индустриализации на окружающую среду? Список можно продолжать.И наоборот, фильмы посвящены всем этим вопросам. Определенно, фильмы Антониони — это исследование двусмысленности с использованием набора иронии, окружающей современную жизнь и искусство.
Призраки индустрии, технологий и личности потерялись в них.
Одна из причин, по которой в фильмах Антониони так много двусмысленности, связана с его нетрадиционным использованием персонажей. Антониони не исследует причины, по которым его персонажи ведут себя именно так. Вместо того, чтобы расширять намерения персонажей с помощью причинно-следственного подхода обычного повествовательного кино, Антониони использует своих персонажей как кинематографические приемы, чтобы выразить свои личные философские размышления о реалиях, окружающих современность.Следовательно, Антониони мистифицирует своих персонажей; или, используя терминологию Ланна, он дегуманизирует их.
Чтобы еще раз проиллюстрировать дегуманизацию Антониони, я обращусь к эссе Вальтера Бенджамина «» «Произведение искусства в эпоху механического воспроизводства» . В этом эссе Бенджамин утверждал, что кино получило возможность «демократизировать» процесс создания искусства, создав «непосредственную реальность», в которой люди могут погрузиться в более общинную форму социальной структуры [3].Это был праздник технологий, а также признание кино как искусства. Бенджамин определил кино как «орхидею в стране технологий» [4]. Как кинорежиссер Антониони утверждает прокламации Бенджамина, но вместо того, чтобы исследовать технологическую среду с помощью камеры, Антониони умоляет сам процесс исследования, тем самым исследуя технологический процесс, лежащий в основе производства фильма. Там, где Бенджамин отличает кино от других технологий, Антониони отличает кинематографические приемы от самих себя.Антониони рассматривает каждый аспект кинематографического языка как орхидею в себе — кино захватывает кино; представление самого себя, кино ради кино. Если говорить кратко, то кинематографические приемы сами по себе являются сюжетом фильмов Антониони. Кроме того, Антониони не только показывает технологическую среду кино, он также демонстрирует самосознание фильма, показывая технологическую среду в Италии. Включая технологическую среду Италии как часть мизансцены, Антониони делает нас более осведомленными о технологиях и техниках как содержании, тем самым информируя нас о манипулятивном присутствии техник кино, которые используются в форме фильма. .
В связи с этим дегуманизация субъекта или личности также проявляется в частом использовании Антониони персонажей, страдающих от одиночества и эмоциональной изоляции. Антониони неоднозначно использует этих персонажей, чтобы передать чувство или отношение, которые окружают современное общество, и в то же время обращается с ними как с кинематографическими приемами. Персонажи дегуманизированы, потому что они становятся одним из аспектов формы фильма. Они принадлежат фильму, который определенно является технологической средой.Персонажи лишены человеческих качеств, потому что с ними обращаются как с частью технологии.
Когда Антониони говорит: «Я чувствую необходимость выразить реальность в терминах, которые не являются полностью реалистичными» [5], он частично трансформирует восприятие Бенджамином кино как зеркального отражения реальности, а частично раскрывает его дегуманизацию предмета — дело его фильмов. Для Антониони кинематограф — это не инструмент, который документирует мир с этнографическими или антропологическими тенденциями, как в колониальном кино [6].В подходе Антониони методы этнографического и антропологического кино трансформируются в положение, при котором они сами становятся сюжетами фильмов. Антонионовское кино используется как инструмент, документирующий логику (или технику) кино. Антониони не только дегуманизирует персонажей, он также дегуманизирует классический смысл изображения объекта «реалистично».
Например, в L’Eclisse колониальная этнография является центральной темой.От представления африканских и колониальных обычаев в квартире Марты до представления обычаев на Borsa (бирже), Антониони пересматривает темы фрагментированных людей и культур в связи с этнографической логикой. Как утверждает Кевин Мур, «[Виттория] танцует, пробираясь в спальню, украшенную панорамой озера Найваша в Найроби, и Антониони снимает сцену, как будто она входит в картину, проходя через зеркало в чужой мир» [ 7].Мур указывает на то, как Антониони представляет Витторию как аутсайдера. Виттория не принадлежит (и не хочет принадлежать) к какой-либо конкретной группе. Она гость, инопланетянин или, как предполагает Мур, персонаж «в поисках отличия» [8]. То же самое происходит с Витторией, когда она посещает Борсу. Крик и движение в центре комнаты сняты, как если бы это был ритуал. Такие персонажи, как Мать Виттории и Пьеро, изображаются как личности, принимающие участие в этом ритуале.Мать Виттории идет прямо к тому же месту у перил, а Пьеро почти всегда бежит от телефонной будки к центру комнаты и обратно. Будь то «хороший день» или «плохой день» на Borsa, почти все реагируют одинаково. Либо большинство жителей Борсы счастливы, либо очень расстроены. Все участники реагируют так, как будто все они принадлежат к одному пульсу.
Моделирование трайбализма в современной жизни.
Сцены в Борсе можно рассматривать как примеры антропологического кино, где происходит наблюдение за поведением людей в их собственной культурной среде.Сама Виттория входит в зал Борсы как посторонний, исследующий комнату. Антониони помещает Витторию по одну сторону от колонн или ворот, разделяющих разные пространства в Борсе, еще раз демонстрируя ее присутствие на сцене со стороны. Если мы считаем, что этнографические и антропологические представления являются традиционными и, следовательно, принадлежат классическому пониманию реальности, то трактовка Антониони этих восприятий как предмета бесчеловечна. Более того, тот факт, что Антониони уподобляет персонажей этим способам восприятия, запись в них потери идентичности — Виттория — переводчик и ищет новую жизнь; Марта — иммигрантка из Кении, которая косвенно обсуждает утрату своей личности; а Пьеро работает в Borsa, его финансовая принадлежность постоянно колеблется — это еще один способ, которым Антониони дегуманизирует своих человеческих персонажей.
Антониони, кроме того, подразумевает дегуманизацию предмета в финальной последовательности, где в течение более семи минут предметы просто исчезают. Вместо этого, далее следует серия бессвязных кадров зданий и человеческих тел, которые на протяжении всего фильма использовались в качестве мизансцены. Ожидание того, что Виттория и Пьеро появятся на углу в назначенное время, заставляет нас ждать, чтобы узнать, что произойдет, когда они встретятся. Вместо этого ни один из них не появляется.Но фильм продолжается, показывая, что Виттория и Пьеро были всего лишь устройствами, которые использовал Антониони. Их жизнь не имеет значения. Важно то, что их жизнь неполна. Конец фильма перекликается с экзистенциальным чувством «непринадлежности». То, что происходит с Витторией и Пьеро из-за того, что они не встретились, не интересует Антониони. Тот факт, что они не встретились, больше говорит о его намерениях. Их свидания служат тому, чтобы не происходить. Это перекликается с мыслью о том, что эти персонажи отчуждены даже друг от друга.Антониони также представляет это, отчуждая наши воспоминания о Виттории и Пьеро в кинематографическое пространство, которое охватывает финальный эпизод.
Тревожное заключение к L’Eclisse .
Тела с трещинами Формы трещин
Итак, в L’Eclisse Антониони включил элементы самосознания Ланна (рефлексивность и одновременность) между разными персонажами и ситуациями, а также двусмысленность и дегуманизацию интегрированных предметов.Но на этом вклад Антониони не заканчивается. Более того, Антониони представляет эти элементы формально, образуя человеческое тело на протяжении всего фильма. Антониони часто снимает только части тела персонажей. В отличие от классического повествовательного кино, Антониони интуитивно ставит руку или ногу не по центру. Здесь тело принадлежит мизансцене так же, как стул или стена. Получившиеся фрагментированные части тела, по-видимому, растворяются в других подобных плавающих фрагментарных объектах в том, что можно назвать Антонионовским кинематографическим пейзажем.Это представление о разрушении нашего восприятия человеческого тела — это не только отказ от этнографической логики, но и призыв к логике обрамления в классическом повествовании.
Тела как объекты, потерянные в кадре.
В целом, Антониони использует многочисленные контекстные дискурсивные слои кино, чтобы создать интертекстуальный язык о кино. Этим Антониони не только создает слой самосознания, но и дегуманизирует предмет.Вместо кино как «орхидеи в стране технологий» это кино, показывающее страну технологий в орхидее. Другими словами, представление о реальности представлено как кинематографический прием. В фильмах не только показана технологическая модернизация ландшафтов Италии, но и эти представления реальности задуманы как выражения кинематографического языка. Реальность находится в опосредованной среде кино. Это кинематографическая реальность. Когда Антониони говорит: «Я чувствую необходимость выразить реальность в терминах, которые не совсем реалистичны», он просто утверждает, что кино создает определенный тип реальности.Это не видение камеры внутри мира; это мир внутри камеры.
Антониони использует социально-политические реалии колониализма и Борсы как приемы в фильме. Что еще более важно, Антониони представляет эти предметы таким образом, чтобы трансформировать традиционные способы использования кино. Антониони старается не проводить четких различий между «реальным» миром, внешним по отношению к фильму, и миром, каким он изображен в фильме. Как пишет Кевин Мур:
[фильмы Антониони] сопротивляются простой идентификации между зрителем и просматриваемым, аудиторией и персонажем, наблюдателем и объектом-субъективностью, от которых зависит классическое голливудское кино.Это методологическое сопротивление ставит зрителя в невуайеристскую или объективную позицию, где ссылка намеренно недоопределена … Антониони стремится взорвать или взорвать все шаблонные интерпретирующие схемы (убеждения), касающиеся романтики и реальности, приступив к кинематографическим исследованиям нашего восприятия эмоционального восприятия. [9]
Нетрадиционное оформление предметов меняет наше понимание того, что такое «предмет». В частности, это преобразование переоценивает отношения между субъектом как содержанием и субъектом как формой.В Антониони субъект может рассматриваться как физический — элементы, которые «физически присутствуют» в фильме (т.е. физические тела персонажей, физическое пространство зданий), так и социально и культурно дискурсивные — элементы, вырастающие из соци- культурные обычаи (например, колониальный вуайеризм, отчуждение). Кроме того, Антониони использует кино и его способность запечатлеть «реальный» мир, в то же время улавливая нормы визуального языка, созданные с помощью кинематографических практик.
Например, в L’Avventura нормы кино предполагают, что Анна в конечном итоге будет найдена мертвой или пропавшей без вести.Напротив, Антониони не определяет ничего подобного. Исчезновение Анны остается неоднозначным с момента его появления в фильме до конца фильма. Антониони деконтекстуализирует повествование, оставляя его открытым, не вовлекая полностью аудиторию в поиски Анны и не определяя мотивы поведения персонажей. Ожидания аудитории основаны на условностях, используемых в других фильмах. Антониони использует условности, установленные в большинстве фильмов, как приемы, которые он затем обнажает до их голой сути.
Чтобы проиллюстрировать использование Антониони норм кино в качестве дискурсивной практики, которой он затем манипулирует в своих фильмах, давайте рассмотрим некоторые из наиболее популярных интерпретаций. Из множества размышлений о фильмах Антониони, касающихся использования Антониони персонажей, можно выделить два лагеря интерпретаций. Есть те, кто считает, что Антониони использует мизансцену для представления внутренней психики персонажей; и есть те, кто сформировал понимание персонажей на основе их взаимодействия друг с другом.Например, Рифкин анализирует представление Антониони о психике персонажей в Il Grido через использование мизансцены:
Взгляд Антониони на человека и природу начинает проявляться более открыто в Il Grido … Антониони неоднократно изображает Альдо на фоне плоского сурового пейзажа, чтобы показать экзистенциальное недомогание своего главного героя. Тематический поток, проходящий через фильм, — это затмение природы в современном мире, аналогичное собственному чувству эмоционального устаревания Альдо, когда он покидает Ирму и свой дом в Гориано.[10]
Внутренняя психика Альдо представлена в окружающем его пустом ландшафте. Он един со своим окружением.
Внутренняя психика Альдо раскрывается в пустом пейзаже.
С другой стороны, в своем обсуждении представления пустоты в L’Avventura Гарри Тросман утверждает, что «сексуальность используется как противоядие от отчаяния и способ справиться с потерей, унижением, тревогой или скукой. Сандро быстро устанавливает связь с Клаудией, не позволяя себе оплакивать исчезновение Анны.[11] Тросман концентрируется на том, как персонажи реагируют на ситуации, принимая психологически логические решения.
На самом деле обе точки зрения верны. Антониони признает обе эти интерпретации в своих фильмах. Рифкин прав, когда интерпретирует, что пейзаж в Il Grido представляет собой внутреннее «экзистенциальное недомогание» Альдо, как и Тросман, когда он интерпретирует, что персонажи в L’Avventura используют сексуальность как способ справиться со своей невыполненной жизнью.Это потому, что Антониони объединяет обе эти интерпретации одновременно. Но это только один из способов, которыми Антониони контекстуализирует различные интерпретации, которые потенциально могут окружать фильм. Как упоминалось ранее, Антониони может контекстуализировать нормы кино многими способами.
В конечном итоге возникает другая интерпретация. В этой интерпретации фильмы начинают относиться к дихотомии реализма и идеализма, которая часто обсуждается в связи с модернистским понятием утопизма.Эта дихотомия лежит в основе фильмов Антониони. Тему утопизма можно найти во всех трех фильмах, обсуждаемых в этом эссе, но также во многих других фильмах Антониони. В Il Grido Альдо ищет утопические идеалы, но везде, где он путешествует, больше напоминает антиутопическую реальность. Точно так же в L’Avventura утопический идеализм изображается как эротизм, а антиутопическая реальность изображается как отчуждение из-за модернизированной культуры.А в L’Eclisse утопическое чувство принадлежности к сообществу соседствует с антиутопическим чувством изоляции и одиночества. Модернистское представление об утопизме можно найти в представлении Антониони антиутопической реальности. Или, как пишет Кевин Мур относительно отчуждения в фильмах Антониони:
Быть отчужденным в фильме Антониони — значит оказаться в чрезмерно индустриализированном, капиталоемком мире, который не может обеспечить благоприятную среду, в которой могли бы процветать эмоции.Однако главная трудность в почти единообразном применении критикой этого негативного понятия отчуждения состоит в том, что оно скрывает скрытый в нем утопический жест. Хотя это правда, что разобщенность и ее основные эффекты, одиночество и изоляция тематически актуальны для кино Антониони, меланхоличный поиск отчужденного «я» своего потерянного идеального мира рассказывает только половину истории. Другая половина — это история или поиск исторического «я» приспособления к миру, который он сам создал.Отчуждение, эффект деидентификации и несоответствия, является не самоцелью, а началом процесса, который, в идеале, возвращает «я» обратно в мир, созданный им самим, и в сообщество единомышленников. также. [12]
Мур объясняет, что идеальность можно найти в подтекстах фильмов Антониони. Отчуждение преподносится как негативная форма реальности, далеко не утопическая. Изображая антиутопическую реальность, Антониони надеется запечатлеть утопические идеалы, которые противоречат тем, что можно увидеть в его фильмах.
Цветы и финансовое разорение: Утопия, вписанная в антиутопию.
Современность и ее модернизм
В заявлении, сделанном на пресс-конференции в Каннах, Антониони рассказал о своих мотивах и соображениях при создании L’Avventura . В этом заявлении Антониони предположил, что «постоянно увеличивающийся раскол между моральным человеком и ученым [приводит к преобладанию эротизма как] симптома эмоциональной болезни нашего времени» [13].Антониони связывает проблемы, которыми он занимается в L’Avventura , с современной социальной конструкцией. Для Антониони либерализм обсуждается в его отношении к отчуждению из-за того, что он заменяет прежнее моральное мышление неизвестными сферами научного мышления. В результате те люди, которые оказываются отчужденными из-за раскола между моралью (то есть идеалами) и наукой (то есть реальностью или принуждением следовать одной идеальности), могут выражать себя только сексуальными средствами.Это заявление было попыткой Антониони разъяснить свою точку зрения о том, что фильм был поиском утопического идеализма. Но как Антониони отразил эту тему в формальной схеме фильма? Хэмиш Форд дает отправную точку для ответа:
В то время как L’Avventura — это своего рода дорожный фильм, классические идеалы действия как средства для успешного и морально однозначного субъективного мастерства и осуществления повествовательных событий затмеваются в этом «приключении» радикально выверенной силой временного и пространственного аффективность.[14]
Во всех трех фильмах, обсуждаемых в этом эссе, Антониони начинает с традиционного подхода к созданию повествовательных фильмов — использования причинно-следственных устройств, управляемых персонажами, для формулирования моральных выводов — и делает их частью формы своих фильмов. . Если обычно эти устройства считаются содержанием фильма, в L’Avventura эти устройства считаются аспектами формы фильма. Сюжеты персонажей не решены, персонажи используются в качестве реквизита в мизансцене, пейзажи Италии и их культурные значения уменьшаются, чтобы служить формальной эстетикой фильма.Фильмы в конце не получают никаких убедительных моральных посланий, которые не были бы двусмысленными. Как и в модернистских картинах, таких как картины Пита Мондриана или Джексона Поллока, содержание фильмов Антониони настолько абстрактно, что рискует остаться незамеченным. Фильмы о форме как о содержании. То есть обе формы используются полностью как содержание, а также интеграция содержания как формы. Фильмы Антониони, работающие под прикрытием модернистской идиомы « l’art pour l’art », представляют собой попытку создать кинотеатр, который исследует его формальные художественные способности, и только.Но более того, эти исследования также служат выражением современной эстетики и проблем, присущих модернизирующемуся и модернистскому миру.
Анна, «главный герой» в L’Avventura , является иллюстрацией как содержания как формы, так и современных проблем. Мы впервые познакомились с ней через спор, который она ведет со своим отцом. Нам известно, что у нее проблемы с общением с отцом, с которым она живет. Нам также стало известно, что ее отец — дипломат на пенсии и очень богат.Также мы понимаем, что у нее проблемы с романтическими отношениями именно на тему брака. Фильм продолжается, когда Анна и ее подруга Клаудия едут в дом Сандро. По прибытии Анна признается Клаудии в своих чувствах по поводу ситуации с Сандро:
«Знаете, быть в разлуке ужасно. Это действительно так, поверьте мне. И трудно заставить его работать, когда один человек здесь, а другой где-то далеко. Но… это тоже удобно. Потому что тогда, по крайней мере, вы можете думать все, что хотите, как хотите — если вы понимаете, о чем я.Но вместо этого, когда … когда кто-то прямо здесь, прямо перед вами, все прямо там, вы понимаете? »
Анна не понимает, чего она хочет от отношений с Сандро. Она еще больше усложняет свои проблемы, продолжая половую жизнь с Сандро сразу после того, как она признается в своих эмоциях Клаудии. Несколькими сценами позже Анна наконец сталкивается со своей ситуацией напрямую с Сандро во время их обсуждения на острове. Она противостоит своему желанию быть одной и свободной, в то же время объясняя, что мысль о потере Сандро вызывает у нее желание умереть.Эта сцена заканчивается растворяющимся снимком, на котором Анна (затылок к камере) смотрит на Сандро, лежащего на камне. Это последний раз, когда мы видим Анну в фильме. После этого кадра физического присутствия Анны в фильме больше нет. Но действительно ли ощущалось ее присутствие в фильме?
Восприятие Анны остается загадочным после этого последнего и последнего ее кадра.
Введение многих персонажей, а вместе с ними и других сюжетов, дает ощущение того, что присутствие Анны никогда не было в центре внимания фильма.Даже к концу фильма у зрителей нет полного представления о том, вокруг кого или чего сосредоточен фильм. Это потому, что, хотя Анна действительно заполняет большую часть содержания и продолжает оставаться центральным конфликтом после ее исчезновения, ее существование должно служить цели исчезновения. У персонажа Анны есть внутренний конфликт с тем, чем она, как ожидается, станет в будущем ее собственной жизни, что структурно перекликается с будущим повествования фильма. Мы ожидаем, что Анна физически останется на протяжении всего фильма, и что, если она исчезнет, ее обязательно найдут.Вместо этого Анну никогда не находят, и в конце фильм больше рассказывает об отношениях Клаудии и Сандро между собой и друг с другом. Как кинематографический прием, Анна представляет собой изображение двусмысленности и изолированности в современной жизни, а также перестановку морали в современном мире. Наконец, исчезновение Анны позволяет сделать вывод о том, что поиски Клаудии и Сандро ее приводят к переводу страха и разочарования в эротику.
Сопровождение этого представления о современности также является слоем того, что Роджер А.Салерно именуется культурой модернизма:
В то время как современность часто рассматривается как набор социальных характеристик, которые описывают определенный образ жизни или даже эпоху, отражающую такие атрибуты, модернизм … в большей степени рассматривается как культурное движение … Модернизм, как движение в искусстве, возникает из влияние современности ». [15]
В работах Антониони мы обнаруживаем, что фильмы содержат как модернистскую эстетику, так и культуру модернизма и период модерна.Мы также находим отношения между фрагментацией-симуляцией, формой-содержанием и дихотомией идеальность-реальность как означающие современной структуры. В своем анализе дихотомии идеалиста и реалиста Роберт Лайонс описывает персонажей Антониони в L’Avventura как олицетворение контраста между идеалами и реальностью. «На протяжении всего фильма Антониони практически стереотипирует некоторых персонажей в рамках идеальности-реальности, чтобы подтвердить свою точку зрения о том, что люди в реальности L’Avventura не ценят идеальность.Они живут в эфемерной, изменчивой и неестественной реальности ». [16]
Персонажи могут менять свою идентичность, как парики в буржуазной искусственной реальности Антониони.
Антониони использует персонажей как средство борьбы с одиночеством и изоляцией. Эти персонажи страдают от отчуждения исключительно для обозначения отчуждения. Антониони больше не исследует персонажей. То, что у персонажей нет глубины, является дегуманизацией их Антониони. Они остаются такими, какие они есть, без использования, например, прозрения, которое является обычным для классического повествования.Это также эстетический выбор Антониони. В этом смысле Антониони документирует отчуждение в современной реальности. Тем не менее, эти персонажи также представляют собой стремление к лучшей, более идеальной реальности. Как зрители, мы наблюдаем борьбу между персонажами, которые могут легко измениться в новых обстоятельствах, и другими персонажами, которых подавляют происходящие изменения. Мы наблюдаем трансформацию социальной реальности с точки зрения модернистской эстетики.
Три фильма, обсуждаемые в этом эссе, раскрывают динамику, окружающую темы модерна.Модерн рассматривается не только как социальная, технологическая или политическая сила, но одновременно и как художественный и культурно-эстетический дискурс. Темы отчуждения, изоляции, традиции и технологической модернизации представлены не только через представление «реальности» модернизации, установленной через ситуации, в которых происходят истории, но также через устоявшиеся условности классического повествования как дискурсивно сформулированные ситуации, которые также исследуются, исследуются и выставляются на обозрение критически осведомленной аудитории.В этих фильмах мы видим, что проблемы современности неотделимы от проблем модернизма. Будучи внимательными к обоим аспектам модерна, фильмы Антониони раскрывают сложность этого периода, раскрывая современность через эстетику модернизма и модернизм через реалии модерна.
Примечания
Зак Мельцер в настоящее время зачислен в аспирантуру Школы кино Мела Хоппенхайма университета Конкордия в области исследований кино и движущихся изображений.Интересы Мельцера включают современность, культурный материализм и историю средств массовой информации с движущимися изображениями. Его текущее исследование сосредоточено на понимании социальных, экономических и культурных факторов, влияющих на динамику экранных технологий в общественных местах.
Том 14, выпуск 4 / апрель 2010 г.
Эссе
итальянское кино микеланджело антониони модернизм
Мастер минимализма / Ретроспектива инновационных фильмов режиссера Микеланджело Антониони охватывает шесть десятилетий
Кто боится Микеланджело Антониони? Кинозрителей много, это точно.На каждого серьезного студента кино, который перевернул бы минималистского итальянского режиссера «L’Avventura», «L’Eclisse» и «Red Desert», найдутся еще десятки тех, кто избегает его фильмов как претенциозных и тяжеловесных.
Их потеря огромна. Один из величайших новаторов в истории кино, Антониони создал множество великолепных, скромных изображений, в которых исследуются трудности связи, цена технологий и изоляция человека. Его фильмы, короткие диалоги и отмеченные длинными медитативными кадрами, помогли переопределить кинематографическое искусство и, в большинстве случаев, сегодня так же ярки и тревожны, как и тогда, когда они были сняты.
На открытии двухнедельной ретроспективы в пятницу в Театре Кастро Кинообщество Сан-Франциско и Istituto Italiano di Cultura представят 14 полнометражных фильмов Антониони и программу его короткометражек — от начала 40-х до его самых последних работ. снят в 1992 году.
Сможет ли ретроспектива привлечь новое поколение поклонников, не знакомых с творчеством Антониони, проблематично. Младшая аудитория, как правило, с помощью MTV и голливудских фильмов о событиях жаждет быстрых, дерзких и простых наград.Антониони, которого критикуют за непрозрачность и непрозрачность, не относится к этому.
«Иногда приходится ломать голову, чтобы понять, что он делает», — говорит Сеймур Чатман, который в 1985 году написал критическое исследование «Антониони, или Поверхность мира» и читал лекции об Антониони в качестве профессора риторики и кино в Калифорнийский университет в Беркли.
Фильмы Антониони, по словам Чатмана, характеризуют «огромное напряжение между линией повествования и чисто визуальной линией.Бывают моменты, например, в «Пассажирке», когда кажется, что он действительно отвлекается от истории и следует за чем-то, что представляет чисто визуальный интерес ».
В интервью 1980 года, когда Чатман спросил Антониони об этой тенденции, режиссер улыбнулся и сказал: «Знаешь, я всегда думаю о следующей истории». «Но я думаю, что он имел в виду, что он настолько очарован этим изображением, что он хочет сохранить его», — говорит Чатман. «И вот почему у вас есть эти маленькие моменты — то, что он называет временными мортами или мертвым временем, — когда персонажи находятся за пределами экрана, а камера фиксируется на заднем плане.«
Когда Чатман писал эссе «Красноречие безмолвия» для ретроспективы Антониони в Линкольн-центре в 1992 году, он говорит: «Я пытался указать на то, что с тех пор, как были изобретены звуковые эффекты, никто не отказывался от устного голоса до такой степени, как Антониони. есть. Теперь люди скажут, что это делает фильмы поверхностными. Но я думаю, что это делает их открытыми ».
86-летний Антониони перенес инсульт в 1985 году, в результате которого его правая сторона была парализована, и он лишился возможности говорить.И все же он продолжал режиссировать — используя указательный палец левой руки — и в 1994 году сотрудничал с Вимом Вендерсом над «Beyond the Clouds», до сих пор не выпущенным в США.
В 1995 году он получил почетную премию «Оскар», которую вручил ему Джек Николсон, звезда его фильма 1975 года «Пассажир» и верный друг. Ниже приводится расписание фильмов для двухнедельной ретроспективы Антониони.
— Пятница: «История любовного романа» (1950).Первый полнометражный фильм Антониони о женщине и ее любовнике, предавших ее мужа, выходит в 19:00. Это следует в 21:30. «Подружки» (1955), история молодой бизнес-леди, которая возвращается в свой родной город, чтобы открыть модный салон. Программа повторяется 3 февраля.
— Суббота: «Взрыв» (1966). Самый большой популярный успех Антониони — это стильная и восхитительная загадка о модном фотографе (Дэвид Хеммингс), который случайно запечатлел акт убийства в своей камере — или нет? На вопрос: «Реальна ли только то, во что мы верим?» это было печально известно кадрами с полной фронтальной наготой.С Ванессой Редгрейв, Верушкой и Джейн Биркин. В 13:30, 16:15, 19 и 21:30.
— 24 января: Программа короткометражных фильмов охватывает пять десятилетий карьеры Антониони и включает «Noto Mandorli Vulcano Stromboli Carnevale», фильм 1992 года, снятый в различных местах Сицилии и снятый для итальянского павильона на выставке Seville Expo в Испании. В полдень, 17:00 и 22:00, повторяется в 14:00. 3 февраля.
Вместе с программой короткометражек: «Красная пустыня» (1964). В первом цветном фильме Антониони снимается Моника Витти в роли проблемной жены инженера, все еще дрожащей после автомобильной аварии, которая встречает приезжего бизнесмена (Ричарда Харриса) и изо всех сил пытается сориентироваться в мире, которому она больше не доверяет.Тихо панический взгляд Антониони на сошедшие с ума технологии, иллюстрированный туманом, грязным промышленным выхлопом и электронным саундтреком, был пророческим. В 14:40 и 19:40.
— 25 января: «Дама без камелий» (1953). Это небольшое произведение о миланской продавщице, ставшей кинозвездой, выходит в 19:00, а затем в 21:20. «Тайна Обервальда» (1980), телефильм Жана Кокто «У орла две головы». Антониони снял фильм как одолжение Витти, которая играет королеву, которая влюбляется в человека, посланного убить ее, и режиссер сказал Чатману, что не считает «Обервальд» одним из своих фильмов.Повторяется в 21:40. 2 февраля.
— 26 января: «Il Grido (Крик)» (1957). Американский актер Стив Кокран играет Альдо, рабочего сахарного завода, который бродит по долине реки По со своей дочерью после того, как жена отвергает его. Чатман называет эту зрелищную драму «поворотным моментом для Антониони … первым фильмом, который продемонстрировал его зрелый стиль и увлечения». В 19:00 повторяется в 22:00. 4 февраля. «L’Avventura» (1960), возможно, определяющая работа Антониони, представляет собой крутое исследование отчуждения.Женщина (Леа Массари) исчезает после ссоры со своим возлюбленным, и до конца фильма возлюбленный (Габриэле Ферзетти) и ее лучший друг (Витти) ищут ее на Лиске Бьянке, необитаемом сицилийском острове. Антониони назвал его «джалло (фильм нуар) наоборот». В 21:30, повторяется в 19:00. 4 февраля.
— 27 января: «Чун Го Китай» (1972). Этот редко показываемый четырехчасовой документальный фильм, снятый по официальному указанию правительства Китая, рассказывает о самой большой нации в мире во время Культурной революции.Китайские власти продиктовали маршрут Антониони, и когда они посмотрели фильм, в котором он отмечает, что «эмоции и несчастья почти невидимы в Китае», они осудили его как «червя, говорящего от имени русских». Восемь лет спустя китайцы официально извинились. В 13:30 и 19:30.
— 28 января: «La Notte» (1961). Марчелло Мастроянни играет известного миланского писателя, а Жанна Моро — жена, которая его не любит, в этом исследовании буржуазного отчаяния и беспокойства.Драма начинается в больничной палате и переносит нас в стриптиз-клуб и ночную вечеринку, прежде чем пара собирается вместе в песочной ловушке на поле для гольфа. В 19:00, повторяется в 21:30. 1 февраля.
«L’Eclisse» (Затмение) (1961) завершает трилогию, начатую «L’Avventura» и «La Notte». Витти играет Витторию, женщину на подъеме, которая встречается с биржевым маклером, которого играет Ален Делон. Оба актера исчезают в последние семь минут фильма, когда Антониони изображает бесплодие римского пригорода.Режиссер назвал этот фильм своим любимым из своих старых фильмов. В 21:30, повторяется в 19:00. 1 февраля.
— 29-30 января: «Пассажирка» (1975). Джек Николсон играет репортера, который меняет свою личность, когда человек, похожий на него, умирает в отдаленном африканском отеле. По словам Антониони, запутанный и неоднозначный, снятый с томной грацией, он об «отношениях человека с самим собой». С Марией Шнайдер, партнером Марлона Брандо по фильму «Последнее танго в Париже».»В 13, 16, 19 и 21:45
— 31 января: «Забриски-Пойнт» (1969). Самая противоречивая и дорогостоящая неудача Антониони подверглась нападкам из-за посторонних взглядов на «Черных пантер», американский капитализм и студенческое восстание 60-х годов. Дарья Халприн, дочь архитектора из Сан-Франциско Лоуренса Халприна и хореографа Анны Халприн, играет хиппи, который встречается с радикалом из Лос-Анджелеса (Марк Фрешетт) и в конце концов занимается любовью в странном пейзаже Долины Смерти.В 13:45, 16:15, 19 и 21:30.
— 2 февраля: «Идентификация женщины» (1982). Возвращаясь к темам начала 60-х годов, Антониони изображает режиссера (Томаса Милиана), ищущего двух женщин: одну для главной роли в его следующем фильме, а другую — на замену его бывшей жене. С фотографией Карло ДиПальма. В 8 часов вечера. Выставлен совместно с «Тайной Обервальда» в 21:40 по московскому времени.
‘МОДЕРНИСТ МАСТЕР’
Ретроспектива Микеланджело Антониони открывается в пятницу и продлится до 4 февраля в Театре Кастро, 429 Castro St., Сан-Франциско. Звоните (415) 621-6120. Круглый стол и прием сериала состоятся в 18:00. Четверг в Istituto Italiano di Cultura по адресу 425 Washington St., Сан-Франциско. Звоните (415) 788-7142).
Микеланджело Антониони — Размышления на серебряном экране
Отчуждение — одно из важнейших событий человеческой жизни. С младенчества до подросткового возраста каждому из нас постоянно служит мир, идеологически созданный для обеспечения нашего благополучия: нас заставляют ходить в школу; наши опекуны устраивают игры с другими детьми; и совершенно незнакомые люди стараются изо всех сил отмечать, какие мы милые, красивые или красивые.
Но затем, когда мы вступаем в подростковый возраст, эта сеть начинает рассеиваться: нам больше не нужно оставаться в школе. Наши родители больше не несут ответственности за нашу социальную жизнь. И другие люди начинают рассматривать нас не как новинку, а как проблему. Теперь дело каждого отдельного ребенка — разобраться в вещах для себя во все более безразличном мире — и в то же время столкнуться с более сложными эмоциями, чем он когда-либо знал раньше. Все внезапно становится абстрактным и непознаваемым.
Каждый, кто доживает до зрелого возраста, испытал отчуждение, но последние три месяца придали этому явлению совершенно новый смысл. Из-за хаоса, который новый коронавирус нанес миру, мы превратились из полностью интегрированных членов общества в отчужденные, изолированные души. На момент написания этого эссе правительство Соединенных Штатов предпринимало первые меры по стимулированию общественной жизни и возобновлению экономики после более чем двух месяцев простоя. Но будущее нации остается неопределенным, и многие опасаются любых неудач или всплесков инфекций, которые могут подстерегать их.
Для меня это было идеальное время вернуться к фильмам Микеланджело Антониони, человека, который (хотя, как ни странно, никогда не обращался к «чуме» как к метафоре) был вечно одержим феноменом отчуждения — особенно как симптомом того, что он видел более широкий современный духовный кризис.
Можно сказать, что Антониони изобрел социальное дистанцирование. Его самые знаменитые фильмы, а именно неофициальная трилогия об отчуждении, в которую входят L’Avventura (1960), La Notte (’61) и L’Eclisse (’62), характеризуются длинными бесцельными отрывками, в которых актер (обычно Моника Витти, с которой он снял пять фильмов) бродит по пустынному ландшафту.Это может быть современный город, скалистый остров, фабрика серого цвета или огромная пустыня: куда бы вы ни повернули, вы там единственный.
Однако, в отличие от нашего текущего момента, это дистанцирование происходит органически, без очевидной или конкретной причины. Одна из самых очаровательных двусмысленностей стиля Антониони заключается в том, выбирают ли персонажи — как в подростковом возрасте, когда границы вокруг самости становятся как более широкими, так и более суженными — дистанцироваться или просто оказываются в таких обстоятельствах.
На самом деле, типичный ответ — оба: герои Антониони имеют тенденцию взывать к своим любовникам, а затем быстро отмахиваются от них. Женщины занимаются любовью с мужчинами, которых они считают подлецами, а затем утешаются среди пустынных древних руин. По мнению Антониони, люди как будто бессознательно вынуждены саботировать свою жизнь из-за того, что им больше нечего делать.
Их логика одинаково запутана: в L’Eclisse мужчина критикует неспособность своей девушки общаться («Вы всегда говорите:« Я не знаю »»), а в La Notte любовница утверждает, что разговор никогда ее ни к чему не приводит («Всякий раз, когда я пытаюсь общаться, любовь исчезает»).Это порочный круг отсутствия усилий; При просмотре этих фильмов у меня постоянно возникал резкий порыв крикнуть: «Всего , попробуй немного !» Если я когда-нибудь встречу Монику Витти, у меня наверняка возникнет вполне разумное желание схватить ее за плечи и встряхнуть.
Но говорить о творчестве Антониони с чисто психологической точки зрения недостаточно. Как бы он ни был предан эстетике отчаяния, он никогда не упускал возможности политизировать его. В большинстве своих фильмов Антониони представляет абстрактную социально-политическую сущность как потенциальный источник современного упадка: в La Notte городское развитие резко контрастирует с поэтическим воображением его главных героев; L’Eclisse наблюдает за беспокойным гротескным деспотизмом, который окрашивает римский фондовый рынок; Красная пустыня (1964 — часто считается четвертым фильмом в «трилогии» об отчуждении) действие происходит на окраине серого, неприступного промышленного предприятия; и Пассажир (‘75) прослеживает кризис идентичности своего героя наряду с партизанской войной и контрабандой оружия в Центральной Африке.
Индустриализм, капитализм, постколониализм — все угрозы экзистенциальной безопасности. А затем в работе «Идентификация женщины » (1982) Антониони обратился к новому врагу: лесбиянству.
Он не торопится, прежде чем добраться до точки. В начале фильма к Никколо (Томас Милиан), режиссеру средних лет, находящемуся в депрессии, подходит незнакомец, который угрожает ему, предупреждая, что, если он знает, что для него хорошо, Никколо должен держаться подальше от женщины, в которую он попал. люблю с.Но по мере развития истории, когда Никколо и его юная возлюбленная Мави (Даниэла Сильверио) страдают паранойей, его девушка оставляет его, чтобы завязать отношения с женщиной. Первоначально позиционируя себя как сдержанный триллер о темной силе романтической незащищенности, первоначальная интрига Identification заменена на иссушающую оценку женщин как непознаваемых объектов тайны.
В этом фильме, выпущенном осенью своей карьеры, Антониони устранил все идеологические отступления, которые он сделал за годы критики «современного мира».(Хотя он по крайней мере в некоторой степени осознает себя: в какой-то момент молодая женщина-гей спрашивает Никколо, почему всем итальянским режиссерам платят за то, чтобы они злились на мир. «Нам также платят за то, чтобы смеяться над этим», — предполагает он. «Это всего лишь еще один способ противостоять этому», — отвечает она.) Хотя он якобы обеспокоен разобщенностью, которая возникает между парами, более внимательное прочтение работы режиссера предполагает, что его беспокойство проистекает из более библейского предписания: опасность умышленного женщины. В самом деле, каждая из его главных героинь озабочена привязанностями неуловимого манипулятивного мужчины — за исключением эпизода «Идентификация женщины» , где секс между женщинами является убогим представлением эффектов феминизма и физически графических сцен «любовных ласк» между ними. Никколо и Мави — рефлексивно враждебные попытки режиссера-мужчины завладеть телом квир-женщины.
Для Антониони именно самоагентство и независимость женщин, а не геополитика, знаменуют конец света; для человека, который годами гонялся за каждым клише в книге либеральной скуки, он никогда не осознавал, что все время скупился на настоящего виновника: белое мужское эго.
Как и в случае с работой таких режиссеров, как Альфред Хичкок или Луи Малле, когда мы пересматриваем фильмы Антониони через призму женоненавистничества, трудно в конечном итоге не классифицировать их как ленивых, беспринципных и уклончивых.Их визуальная привлекательность — элегантные минималистичные картины с участием прекрасных итальянских и французских актеров — давно отвлекала публику от язвительной, непоколебимой души, которая скрывается под ними. Красивость и техническое мастерство не являются адекватными аргументами против более зловещих недостатков этики или скромности в фильмах, и, несмотря на то, что такие выразительные фильмы, как L’Ecclisse и Пассажир , навязчиво несчастны, мы не можем игнорировать, что они также лишенный существенного эмоционального откровения.
Единственный фильм, который приближается к противоположности, — это La Notte — возможно, потому, что это наименее уловка из произведений Антониони. Он начинается с того, что пара Лидия (Жанна Моро) и Джованни (Марчелло Мастроянни) навещают своего умирающего друга. Когда друг рассказывает им о своей последующей кончине, Лидия поражается и выходит наружу; тем временем, когда он выходит из комнаты своего друга, к Джованни в холле обращается неуравновешенная, беспорядочная женщина-пациентка — «истеричная» женщина, которой он пользуется перед вмешательством группы медсестер.(Конечно, медсестры начинают избивать своего пациента, пока Джованни, не беспокоясь, выскальзывает из комнаты.)
Эта пара инцидентов задает атмосферу на весь день, когда Джованни и Лидия едут на собрание, посвященное выходу его нового романа. а затем ночью присоединяйтесь к другой вечеринке в доме могущественного промышленника. (Самый красноречивый отрывок в фильме происходит, когда промышленник, которого Винченцо Корбелла играет в жизненно важном, но тихо апатичном представлении, наклоняется в своем саду, чтобы сорвать одну из своих любимых роз.На ночной вечеринке их знакомят с молодой женщиной по имени Валентина (Витти), которая становится третьей точкой в тупо романтическом треугольнике, побуждая обоих партнеров более открыто задуматься о природе их брака.
Происходящий как раз в середине трилогии об отчуждении, La Notte обнаруживает чувство потери, которое общепризнано, но редко ощущается ни в одном из других фильмов Антониони. В своем фильме прошлого года « L’Avventura » Антониони принял блестящее решение представить главную героиню, Анну (Леа Массари), которая исчезает через тридцать минут, а затем ее не находят; на самом деле, никогда даже не узнали, почему она исчезла.Ее необъяснимое отсутствие становится катализатором для других персонажей, чтобы противостоять пустоте их собственного существования — но что так душераздирающе в La Notte , так это то, что, хотя никто не исчезает, теряется нечто гораздо более деликатное и драгоценное: супружеская любовь.
В отличие от L’Eclisse или Red Desert , в которых место действия или небесное событие добавлено как свободная метафора для отчаяния его персонажей, La Notte использует однодневное погружение во тьму (и последующий за ним рассвет ) как размеренное, чуткое продолжение жестких, бескомпромиссных эмоций Лидии и Джованни.Изысканно спроектированные парой буржуазных окрестностей в сочетании с низким чернильным освещением и собственными тощими, похожими на тень фигурами актеров, блуждающими мимо камеры, составляют своего рода философско-эстетическую элегантность. Это единственный раз в более поздней фильмографии Антониони, когда на протяжении двух часов содержание соответствует форме по тонкости и глубине. Другими словами, La Notte заслуживает уныния.
В целом, однако, фильмы Микеланджело Антониони представляют незрелое мировоззрение — такое, которое определяет отчуждение как фундаментальное качество современной жизни и, таким образом, избегает более всеобъемлющей оценки «современности».Он не признает каких-либо более серьезных идиосинкразий в человеческом поведении и уклоняется от ответственности более пристального исследования своих собственных предрассудков. Конечно, в мире, в котором мы живем, есть многое, что только выражало бы пессимистическое мнение Антониони, если бы он был жив, чтобы это увидеть. (Подумайте только, что он сделал бы с мобильными телефонами и Snapchat.) Тем не менее, одно из откровений, которые я получил во время этой пандемии, мало чем отличается от того, что молодые люди обнаруживают, впервые совершая самостоятельный удар: что люди, несмотря на все заповеди, склонны проявляться друг для друга.
Быть свидетелем того, как настойчиво люди в последнее время стремились укрепить сообщество — посредством звонков Zoom, потоковых музыкальных представлений и местных волонтерских усилий — значит осознать, что в широком масштабе люди имеют способ адаптироваться к кризисам в неожиданных обстоятельствах. -напухающие пути. Из-за этого трудно поддерживать пессимизм; фильмы Микеланджело Антониони в конечном итоге неубедительны, как своей скучной торжественностью, так и своей устаревшей политикой.
Смотреть Red Desert или Пассажир или даже La Notte сегодня означает задаться вопросом, как, если он умер шестьдесят лет назад, человеческому духу, возможно, удалось сохраниться.Ответ на этот вопрос — гибель Антониони.
За самым известным фильмом о фотографии
Дэвид Хеммингс и Верушка фон Лендорф в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони), 1966 год, автор: Тацио Секкиароли. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. Микеланджело Антониони), 1966 год, автор — Артур Эванс Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co.- Развлекательная компания Warner Bros — любезно предоставлено Филиппом Гарном. Модели в увеличенном масштабе (Реги: Микеланджело Антониони), 1966 — Артур Эванс. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Развлекательная компания Warner Bros — любезно предоставлена Филиппом Гарном Дэвидом Хеммингсом. в фильме «Взрыв» (Реджи: Микеланджело Антониони), 1966, Артур Эванс. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Развлекательная компания Warner Bros. — любезно предоставлено Филиппом Гарне. Брайан Эпштейн (Коробка картинок), 1965, Дэвид Бейли V&A Images / Музей Виктории и Альберта Грейс и Телма, Итальянский Vogue, 1966 год, Эрик Суэйн Предоставлено Томом Суэйном Дэвид Бейли фотографирует Мойру Свон, 1965 год, Терри О’Нил Предоставлено Филиппом Гарнером Безудержно умоляет о помощи, Олдгейт , 1963 Дон МакКуллин Дон Маккаллин — Предоставлено галереей Hamiltons, Лондон Donyale Luna am Set von Blow-Up, 1966 Дэвид Монтгомери Дэвид Монтгомери Дэвид Хеммингс в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони), 1966, автор: Артур Эванс Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co.- Компания Warner Bros Entertainment — любезно предоставлена Филиппом Гарном. Томас, взорванный в парке, 1966, автор: Дон МакКуллин. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Развлекательная компания Warner Bros. — предоставлено Филиппом Гарнером. Swingeing London III, 1972 Рихард Гамильтон Художественный музей Винтертур, Анкауф / Швейцарский институт художественного искусства, Цюрих, Жан-Пьер Кун Джейн Биркин, 1960-е годы Брайан Даффи Брайан Даффи Дэвид Хеммингс в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони, 1966, 1966) Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co.- Компания Warner Bros Entertainment — любезно предоставлено Филиппом Гарном
«Это моя работа. Некоторые люди — тореадоры. Некоторые люди — политики. Я фотограф », — говорит Томас, главный герой культового классического фильма Микеланджело Антониони и лучшего кассового фильма 1966 года« Blow-Up ».
Томас, которого играет Дэвид Хеммингс, является модным и дерзким модным фотографом в лондонских «Swinging Sixties», в эпоху, когда британские фотографы доминировали и поддерживали распространение глянцевых моделей в журналах. Сегодняшняя далекая мечта для фотографов, он ездит по городу на Rolls Royce, и молодые честолюбивые модели преследуют его, чтобы сфотографироваться.Несмотря на свой успех и связанные с ним гедонистические вознаграждения, Томасу все больше наскучивает его коммерческая работа, и он все больше обращается к социальному документальному потенциалу фотографии, репортажам и уличной съемке. В буквальном смысле подрабатывая ночами, снимая незаметные кадры в приюте для бездомных, Томас встречает обнимающуюся пару в парке Мэрион и становится на колени, чтобы запечатлеть откровенный момент.
Это действие вызывает сильное беспокойство у женщины, которую изображают, которую играет Ванесса Редгрейв, которая требует увидеть изображение и пытается выхватить его фотоаппарат.Он отвечает нашей вступительной цитатой, чтобы разрядить обстановку. Но его любопытство достигло максимума. Позже он запирается в своей темной комнате, чтобы проявить и увеличить негативы. Внимательно изучив свои «взрывы», Томас находит в кустах человека с пистолетом. Несколькими кадрами позже он обнаруживает, что вполне могло быть безжизненным телом трупа. Одержимый перспективой непреднамеренно заснять на камеру преступление, караемое смертной казнью, Томас перефотографирует свое увеличение на слайд-пленку и продолжает присматриваться.
«Фотографии оказываются двусмысленными в качестве доказательства, однако их увеличение не делает мотивы более ясными или разборчивыми», — пишет Клаузе Альбрехт Шредер, директор первой в истории крупной выставки, исследующей фильм 1966 года через единственное перспектива фотографии. «Напротив, это делает их все более размытыми и абстрактными».
«Только на поверхности раздутие создает напряжение триллера», — продолжает Шредер. «Их настоящая цель — дать возможность режиссеру развить визуальный дискурс по вопросу о том, как представлена реальность, и о фундаментальной амбивалентности фотографий.”
Почти полвека назад в том, что он назвал своим самым автобиографическим фильмом, известный итальянский режиссер Антониони пришел к выводу, что реальность через линзу — это всего лишь конструкция среды, которая важна: мы видим то, что хотим видеть. Его аргумент — это художественная предпосылка, которую многие современные фотографы все еще воплощают в своих работах. Это также предвосхищает кризис репрезентации, с которым мы сталкиваемся по сей день, даже будучи критиками фотожурналистики, когда мы пытаемся увеличивать масштаб и анализировать пиксель за пикселем то, что может считаться истинным при механическом воспроизведении так называемой реальности.
Дэвид Хеммингс в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони), 1966 год, Артур Эванс. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Компания Warner Bros Entertainment — любезно предоставлено Филиппом Гарне.
«Взрыв: Классический фильм Антониони и фотография», в главном офисе Берлина до 10 апреля 2015 года — головокружительный взгляд на многослойное исследование фотографии Антониони. Создатель фильма использовал его не только в качестве сюжета, но и как инструмент теоретической рефлексии, «вплетенный в саму ткань фильма», — пишет Уолтер Мозер, соредактор сопутствующего каталога.Изданная Hatje Cantz, книга с 1020 иллюстрациями и 280 страницами поставляется в искусно упакованной пластиковой лупе.
Представленные работы на выставке и в книге включают кадры из фильма с раскадровкой, а также производственные кадры, сделанные британским фотографом Артуром Эвансом. Антониони нанял его специально для съемок во время съемок для рекламных изображений, а в некоторых случаях перестраивал сцены только для кадров. Несколько других известных фотографов были приглашены для съемки определенных моментов, в том числе Терри О’Нил, Ив Арнольд из Magnum, итальянский папараццо Тацио Секкиароли и многие другие.
Выставка также помещает фильм в фотоисторический контекст, демонстрируя работы британских модных фотографов Дэвида Бейли, Брайана Даффи и Теренса Донована, известных как «Черная троица», в которых Антониони черпал прямое вдохновение, отправляя им и другим любопытные анкеты, посещение их студий, наблюдение за ними в действии. В современной перспективе кураторы также включают изображения художников, вдохновленных созданием фильма, и ссылаются на них в своих работах по сей день.
Наконец, есть фотографии, которые появляются в самом фильме, выставленные в студии Томаса, такие как «Верблюжий поезд, 1966» Джона Коуэна и «Цикл II, 1965» Питера Седгли, намекающие на абстракцию предполагаемого Томаса. захват места преступления.Однако наиболее интересными являются изображения реквизита, сделанные для реальных увеличений. Для этого Антониони специально нанял известного военного фотографа и социального документалиста Дона МакКаллина за гонорар в 500 фунтов. Двадцать четыре его классических изображения Ист-Лондона также использовались в качестве заменителя книжного макета документальной работы Томаса.
Для сцены в парке Маккаллин был рядом, чтобы посоветовать актеру, играющему Томаса, как правильно обращаться с камерой, какой язык тела передать. Там он также присел в том же месте, что и Томас, чтобы запечатлеть пару с того же угла, используя ту же камеру, Nikon F.Антониони проинструктировал Маккаллина, что делать, но для максимальной достоверности так и не объяснил, что происходит. Как и Томас, Маккаллин ничего не знал о человеке в кустах, который запечатлел его кадр, прежде чем передать свои негативы. Что характерно, в интервью Мозеру в прошлом году Маккаллин описал свой опыт съемок на съемочной площадке как сбивающий с толку — это было «сюрреалистично».
Тревожное заключение к L’Eclisse .
Тела с трещинами Формы трещин
Итак, в L’Eclisse Антониони включил элементы самосознания Ланна (рефлексивность и одновременность) между разными персонажами и ситуациями, а также двусмысленность и дегуманизацию интегрированных предметов.Но на этом вклад Антониони не заканчивается. Более того, Антониони представляет эти элементы формально, образуя человеческое тело на протяжении всего фильма. Антониони часто снимает только части тела персонажей. В отличие от классического повествовательного кино, Антониони интуитивно ставит руку или ногу не по центру. Здесь тело принадлежит мизансцене так же, как стул или стена. Получившиеся фрагментированные части тела, по-видимому, растворяются в других подобных плавающих фрагментарных объектах в том, что можно назвать Антонионовским кинематографическим пейзажем.Это представление о разрушении нашего восприятия человеческого тела — это не только отказ от этнографической логики, но и призыв к логике обрамления в классическом повествовании.
Тела как объекты, потерянные в кадре.
В целом, Антониони использует многочисленные контекстные дискурсивные слои кино, чтобы создать интертекстуальный язык о кино. Этим Антониони не только создает слой самосознания, но и дегуманизирует предмет.Вместо кино как «орхидеи в стране технологий» это кино, показывающее страну технологий в орхидее. Другими словами, представление о реальности представлено как кинематографический прием. В фильмах не только показана технологическая модернизация ландшафтов Италии, но и эти представления реальности задуманы как выражения кинематографического языка. Реальность находится в опосредованной среде кино. Это кинематографическая реальность. Когда Антониони говорит: «Я чувствую необходимость выразить реальность в терминах, которые не совсем реалистичны», он просто утверждает, что кино создает определенный тип реальности.Это не видение камеры внутри мира; это мир внутри камеры.
Антониони использует социально-политические реалии колониализма и Борсы как приемы в фильме. Что еще более важно, Антониони представляет эти предметы таким образом, чтобы трансформировать традиционные способы использования кино. Антониони старается не проводить четких различий между «реальным» миром, внешним по отношению к фильму, и миром, каким он изображен в фильме. Как пишет Кевин Мур:
[фильмы Антониони] сопротивляются простой идентификации между зрителем и просматриваемым, аудиторией и персонажем, наблюдателем и объектом-субъективностью, от которых зависит классическое голливудское кино.Это методологическое сопротивление ставит зрителя в невуайеристскую или объективную позицию, где ссылка намеренно недоопределена … Антониони стремится взорвать или взорвать все шаблонные интерпретирующие схемы (убеждения), касающиеся романтики и реальности, приступив к кинематографическим исследованиям нашего восприятия эмоционального восприятия. [9]
Нетрадиционное оформление предметов меняет наше понимание того, что такое «предмет». В частности, это преобразование переоценивает отношения между субъектом как содержанием и субъектом как формой.В Антониони субъект может рассматриваться как физический — элементы, которые «физически присутствуют» в фильме (т.е. физические тела персонажей, физическое пространство зданий), так и социально и культурно дискурсивные — элементы, вырастающие из соци- культурные обычаи (например, колониальный вуайеризм, отчуждение). Кроме того, Антониони использует кино и его способность запечатлеть «реальный» мир, в то же время улавливая нормы визуального языка, созданные с помощью кинематографических практик.
Например, в L’Avventura нормы кино предполагают, что Анна в конечном итоге будет найдена мертвой или пропавшей без вести.Напротив, Антониони не определяет ничего подобного. Исчезновение Анны остается неоднозначным с момента его появления в фильме до конца фильма. Антониони деконтекстуализирует повествование, оставляя его открытым, не вовлекая полностью аудиторию в поиски Анны и не определяя мотивы поведения персонажей. Ожидания аудитории основаны на условностях, используемых в других фильмах. Антониони использует условности, установленные в большинстве фильмов, как приемы, которые он затем обнажает до их голой сути.
Чтобы проиллюстрировать использование Антониони норм кино в качестве дискурсивной практики, которой он затем манипулирует в своих фильмах, давайте рассмотрим некоторые из наиболее популярных интерпретаций. Из множества размышлений о фильмах Антониони, касающихся использования Антониони персонажей, можно выделить два лагеря интерпретаций. Есть те, кто считает, что Антониони использует мизансцену для представления внутренней психики персонажей; и есть те, кто сформировал понимание персонажей на основе их взаимодействия друг с другом.Например, Рифкин анализирует представление Антониони о психике персонажей в Il Grido через использование мизансцены:
Взгляд Антониони на человека и природу начинает проявляться более открыто в Il Grido … Антониони неоднократно изображает Альдо на фоне плоского сурового пейзажа, чтобы показать экзистенциальное недомогание своего главного героя. Тематический поток, проходящий через фильм, — это затмение природы в современном мире, аналогичное собственному чувству эмоционального устаревания Альдо, когда он покидает Ирму и свой дом в Гориано.[10]
Внутренняя психика Альдо представлена в окружающем его пустом ландшафте. Он един со своим окружением.
Внутренняя психика Альдо раскрывается в пустом пейзаже.
С другой стороны, в своем обсуждении представления пустоты в L’Avventura Гарри Тросман утверждает, что «сексуальность используется как противоядие от отчаяния и способ справиться с потерей, унижением, тревогой или скукой. Сандро быстро устанавливает связь с Клаудией, не позволяя себе оплакивать исчезновение Анны.[11] Тросман концентрируется на том, как персонажи реагируют на ситуации, принимая психологически логические решения.
На самом деле обе точки зрения верны. Антониони признает обе эти интерпретации в своих фильмах. Рифкин прав, когда интерпретирует, что пейзаж в Il Grido представляет собой внутреннее «экзистенциальное недомогание» Альдо, как и Тросман, когда он интерпретирует, что персонажи в L’Avventura используют сексуальность как способ справиться со своей невыполненной жизнью.Это потому, что Антониони объединяет обе эти интерпретации одновременно. Но это только один из способов, которыми Антониони контекстуализирует различные интерпретации, которые потенциально могут окружать фильм. Как упоминалось ранее, Антониони может контекстуализировать нормы кино многими способами.
В конечном итоге возникает другая интерпретация. В этой интерпретации фильмы начинают относиться к дихотомии реализма и идеализма, которая часто обсуждается в связи с модернистским понятием утопизма.Эта дихотомия лежит в основе фильмов Антониони. Тему утопизма можно найти во всех трех фильмах, обсуждаемых в этом эссе, но также во многих других фильмах Антониони. В Il Grido Альдо ищет утопические идеалы, но везде, где он путешествует, больше напоминает антиутопическую реальность. Точно так же в L’Avventura утопический идеализм изображается как эротизм, а антиутопическая реальность изображается как отчуждение из-за модернизированной культуры.А в L’Eclisse утопическое чувство принадлежности к сообществу соседствует с антиутопическим чувством изоляции и одиночества. Модернистское представление об утопизме можно найти в представлении Антониони антиутопической реальности. Или, как пишет Кевин Мур относительно отчуждения в фильмах Антониони:
Быть отчужденным в фильме Антониони — значит оказаться в чрезмерно индустриализированном, капиталоемком мире, который не может обеспечить благоприятную среду, в которой могли бы процветать эмоции.Однако главная трудность в почти единообразном применении критикой этого негативного понятия отчуждения состоит в том, что оно скрывает скрытый в нем утопический жест. Хотя это правда, что разобщенность и ее основные эффекты, одиночество и изоляция тематически актуальны для кино Антониони, меланхоличный поиск отчужденного «я» своего потерянного идеального мира рассказывает только половину истории. Другая половина — это история или поиск исторического «я» приспособления к миру, который он сам создал.Отчуждение, эффект деидентификации и несоответствия, является не самоцелью, а началом процесса, который, в идеале, возвращает «я» обратно в мир, созданный им самим, и в сообщество единомышленников. также. [12]
Мур объясняет, что идеальность можно найти в подтекстах фильмов Антониони. Отчуждение преподносится как негативная форма реальности, далеко не утопическая. Изображая антиутопическую реальность, Антониони надеется запечатлеть утопические идеалы, которые противоречат тем, что можно увидеть в его фильмах.
Цветы и финансовое разорение: Утопия, вписанная в антиутопию.
Современность и ее модернизм
В заявлении, сделанном на пресс-конференции в Каннах, Антониони рассказал о своих мотивах и соображениях при создании L’Avventura . В этом заявлении Антониони предположил, что «постоянно увеличивающийся раскол между моральным человеком и ученым [приводит к преобладанию эротизма как] симптома эмоциональной болезни нашего времени» [13].Антониони связывает проблемы, которыми он занимается в L’Avventura , с современной социальной конструкцией. Для Антониони либерализм обсуждается в его отношении к отчуждению из-за того, что он заменяет прежнее моральное мышление неизвестными сферами научного мышления. В результате те люди, которые оказываются отчужденными из-за раскола между моралью (то есть идеалами) и наукой (то есть реальностью или принуждением следовать одной идеальности), могут выражать себя только сексуальными средствами.Это заявление было попыткой Антониони разъяснить свою точку зрения о том, что фильм был поиском утопического идеализма. Но как Антониони отразил эту тему в формальной схеме фильма? Хэмиш Форд дает отправную точку для ответа:
В то время как L’Avventura — это своего рода дорожный фильм, классические идеалы действия как средства для успешного и морально однозначного субъективного мастерства и осуществления повествовательных событий затмеваются в этом «приключении» радикально выверенной силой временного и пространственного аффективность.[14]
Во всех трех фильмах, обсуждаемых в этом эссе, Антониони начинает с традиционного подхода к созданию повествовательных фильмов — использования причинно-следственных устройств, управляемых персонажами, для формулирования моральных выводов — и делает их частью формы своих фильмов. . Если обычно эти устройства считаются содержанием фильма, в L’Avventura эти устройства считаются аспектами формы фильма. Сюжеты персонажей не решены, персонажи используются в качестве реквизита в мизансцене, пейзажи Италии и их культурные значения уменьшаются, чтобы служить формальной эстетикой фильма.Фильмы в конце не получают никаких убедительных моральных посланий, которые не были бы двусмысленными. Как и в модернистских картинах, таких как картины Пита Мондриана или Джексона Поллока, содержание фильмов Антониони настолько абстрактно, что рискует остаться незамеченным. Фильмы о форме как о содержании. То есть обе формы используются полностью как содержание, а также интеграция содержания как формы. Фильмы Антониони, работающие под прикрытием модернистской идиомы « l’art pour l’art », представляют собой попытку создать кинотеатр, который исследует его формальные художественные способности, и только.Но более того, эти исследования также служат выражением современной эстетики и проблем, присущих модернизирующемуся и модернистскому миру.
Анна, «главный герой» в L’Avventura , является иллюстрацией как содержания как формы, так и современных проблем. Мы впервые познакомились с ней через спор, который она ведет со своим отцом. Нам известно, что у нее проблемы с общением с отцом, с которым она живет. Нам также стало известно, что ее отец — дипломат на пенсии и очень богат.Также мы понимаем, что у нее проблемы с романтическими отношениями именно на тему брака. Фильм продолжается, когда Анна и ее подруга Клаудия едут в дом Сандро. По прибытии Анна признается Клаудии в своих чувствах по поводу ситуации с Сандро:
«Знаете, быть в разлуке ужасно. Это действительно так, поверьте мне. И трудно заставить его работать, когда один человек здесь, а другой где-то далеко. Но… это тоже удобно. Потому что тогда, по крайней мере, вы можете думать все, что хотите, как хотите — если вы понимаете, о чем я.Но вместо этого, когда … когда кто-то прямо здесь, прямо перед вами, все прямо там, вы понимаете? »
Анна не понимает, чего она хочет от отношений с Сандро. Она еще больше усложняет свои проблемы, продолжая половую жизнь с Сандро сразу после того, как она признается в своих эмоциях Клаудии. Несколькими сценами позже Анна наконец сталкивается со своей ситуацией напрямую с Сандро во время их обсуждения на острове. Она противостоит своему желанию быть одной и свободной, в то же время объясняя, что мысль о потере Сандро вызывает у нее желание умереть.Эта сцена заканчивается растворяющимся снимком, на котором Анна (затылок к камере) смотрит на Сандро, лежащего на камне. Это последний раз, когда мы видим Анну в фильме. После этого кадра физического присутствия Анны в фильме больше нет. Но действительно ли ощущалось ее присутствие в фильме?
Восприятие Анны остается загадочным после этого последнего и последнего ее кадра.
Введение многих персонажей, а вместе с ними и других сюжетов, дает ощущение того, что присутствие Анны никогда не было в центре внимания фильма.Даже к концу фильма у зрителей нет полного представления о том, вокруг кого или чего сосредоточен фильм. Это потому, что, хотя Анна действительно заполняет большую часть содержания и продолжает оставаться центральным конфликтом после ее исчезновения, ее существование должно служить цели исчезновения. У персонажа Анны есть внутренний конфликт с тем, чем она, как ожидается, станет в будущем ее собственной жизни, что структурно перекликается с будущим повествования фильма. Мы ожидаем, что Анна физически останется на протяжении всего фильма, и что, если она исчезнет, ее обязательно найдут.Вместо этого Анну никогда не находят, и в конце фильм больше рассказывает об отношениях Клаудии и Сандро между собой и друг с другом. Как кинематографический прием, Анна представляет собой изображение двусмысленности и изолированности в современной жизни, а также перестановку морали в современном мире. Наконец, исчезновение Анны позволяет сделать вывод о том, что поиски Клаудии и Сандро ее приводят к переводу страха и разочарования в эротику.
Сопровождение этого представления о современности также является слоем того, что Роджер А.Салерно именуется культурой модернизма:
В то время как современность часто рассматривается как набор социальных характеристик, которые описывают определенный образ жизни или даже эпоху, отражающую такие атрибуты, модернизм … в большей степени рассматривается как культурное движение … Модернизм, как движение в искусстве, возникает из влияние современности ». [15]
В работах Антониони мы обнаруживаем, что фильмы содержат как модернистскую эстетику, так и культуру модернизма и период модерна.Мы также находим отношения между фрагментацией-симуляцией, формой-содержанием и дихотомией идеальность-реальность как означающие современной структуры. В своем анализе дихотомии идеалиста и реалиста Роберт Лайонс описывает персонажей Антониони в L’Avventura как олицетворение контраста между идеалами и реальностью. «На протяжении всего фильма Антониони практически стереотипирует некоторых персонажей в рамках идеальности-реальности, чтобы подтвердить свою точку зрения о том, что люди в реальности L’Avventura не ценят идеальность.Они живут в эфемерной, изменчивой и неестественной реальности ». [16]
Персонажи могут менять свою идентичность, как парики в буржуазной искусственной реальности Антониони.
Антониони использует персонажей как средство борьбы с одиночеством и изоляцией. Эти персонажи страдают от отчуждения исключительно для обозначения отчуждения. Антониони больше не исследует персонажей. То, что у персонажей нет глубины, является дегуманизацией их Антониони. Они остаются такими, какие они есть, без использования, например, прозрения, которое является обычным для классического повествования.Это также эстетический выбор Антониони. В этом смысле Антониони документирует отчуждение в современной реальности. Тем не менее, эти персонажи также представляют собой стремление к лучшей, более идеальной реальности. Как зрители, мы наблюдаем борьбу между персонажами, которые могут легко измениться в новых обстоятельствах, и другими персонажами, которых подавляют происходящие изменения. Мы наблюдаем трансформацию социальной реальности с точки зрения модернистской эстетики.
Три фильма, обсуждаемые в этом эссе, раскрывают динамику, окружающую темы модерна.Модерн рассматривается не только как социальная, технологическая или политическая сила, но одновременно и как художественный и культурно-эстетический дискурс. Темы отчуждения, изоляции, традиции и технологической модернизации представлены не только через представление «реальности» модернизации, установленной через ситуации, в которых происходят истории, но также через устоявшиеся условности классического повествования как дискурсивно сформулированные ситуации, которые также исследуются, исследуются и выставляются на обозрение критически осведомленной аудитории.В этих фильмах мы видим, что проблемы современности неотделимы от проблем модернизма. Будучи внимательными к обоим аспектам модерна, фильмы Антониони раскрывают сложность этого периода, раскрывая современность через эстетику модернизма и модернизм через реалии модерна.
Примечания
Зак Мельцер в настоящее время зачислен в аспирантуру Школы кино Мела Хоппенхайма университета Конкордия в области исследований кино и движущихся изображений.Интересы Мельцера включают современность, культурный материализм и историю средств массовой информации с движущимися изображениями. Его текущее исследование сосредоточено на понимании социальных, экономических и культурных факторов, влияющих на динамику экранных технологий в общественных местах.
Том 14, выпуск 4 / апрель 2010 г.
Эссе
итальянское кино микеланджело антониони модернизм
Мастер минимализма / Ретроспектива инновационных фильмов режиссера Микеланджело Антониони охватывает шесть десятилетий
Кто боится Микеланджело Антониони? Кинозрителей много, это точно.На каждого серьезного студента кино, который перевернул бы минималистского итальянского режиссера «L’Avventura», «L’Eclisse» и «Red Desert», найдутся еще десятки тех, кто избегает его фильмов как претенциозных и тяжеловесных.
Их потеря огромна. Один из величайших новаторов в истории кино, Антониони создал множество великолепных, скромных изображений, в которых исследуются трудности связи, цена технологий и изоляция человека. Его фильмы, короткие диалоги и отмеченные длинными медитативными кадрами, помогли переопределить кинематографическое искусство и, в большинстве случаев, сегодня так же ярки и тревожны, как и тогда, когда они были сняты.
На открытии двухнедельной ретроспективы в пятницу в Театре Кастро Кинообщество Сан-Франциско и Istituto Italiano di Cultura представят 14 полнометражных фильмов Антониони и программу его короткометражек — от начала 40-х до его самых последних работ. снят в 1992 году.
Сможет ли ретроспектива привлечь новое поколение поклонников, не знакомых с творчеством Антониони, проблематично. Младшая аудитория, как правило, с помощью MTV и голливудских фильмов о событиях жаждет быстрых, дерзких и простых наград.Антониони, которого критикуют за непрозрачность и непрозрачность, не относится к этому.
«Иногда приходится ломать голову, чтобы понять, что он делает», — говорит Сеймур Чатман, который в 1985 году написал критическое исследование «Антониони, или Поверхность мира» и читал лекции об Антониони в качестве профессора риторики и кино в Калифорнийский университет в Беркли.
Фильмы Антониони, по словам Чатмана, характеризуют «огромное напряжение между линией повествования и чисто визуальной линией.Бывают моменты, например, в «Пассажирке», когда кажется, что он действительно отвлекается от истории и следует за чем-то, что представляет чисто визуальный интерес ».
В интервью 1980 года, когда Чатман спросил Антониони об этой тенденции, режиссер улыбнулся и сказал: «Знаешь, я всегда думаю о следующей истории». «Но я думаю, что он имел в виду, что он настолько очарован этим изображением, что он хочет сохранить его», — говорит Чатман. «И вот почему у вас есть эти маленькие моменты — то, что он называет временными мортами или мертвым временем, — когда персонажи находятся за пределами экрана, а камера фиксируется на заднем плане.«
Когда Чатман писал эссе «Красноречие безмолвия» для ретроспективы Антониони в Линкольн-центре в 1992 году, он говорит: «Я пытался указать на то, что с тех пор, как были изобретены звуковые эффекты, никто не отказывался от устного голоса до такой степени, как Антониони. есть. Теперь люди скажут, что это делает фильмы поверхностными. Но я думаю, что это делает их открытыми ».
86-летний Антониони перенес инсульт в 1985 году, в результате которого его правая сторона была парализована, и он лишился возможности говорить.И все же он продолжал режиссировать — используя указательный палец левой руки — и в 1994 году сотрудничал с Вимом Вендерсом над «Beyond the Clouds», до сих пор не выпущенным в США.
В 1995 году он получил почетную премию «Оскар», которую вручил ему Джек Николсон, звезда его фильма 1975 года «Пассажир» и верный друг. Ниже приводится расписание фильмов для двухнедельной ретроспективы Антониони.
— Пятница: «История любовного романа» (1950).Первый полнометражный фильм Антониони о женщине и ее любовнике, предавших ее мужа, выходит в 19:00. Это следует в 21:30. «Подружки» (1955), история молодой бизнес-леди, которая возвращается в свой родной город, чтобы открыть модный салон. Программа повторяется 3 февраля.
— Суббота: «Взрыв» (1966). Самый большой популярный успех Антониони — это стильная и восхитительная загадка о модном фотографе (Дэвид Хеммингс), который случайно запечатлел акт убийства в своей камере — или нет? На вопрос: «Реальна ли только то, во что мы верим?» это было печально известно кадрами с полной фронтальной наготой.С Ванессой Редгрейв, Верушкой и Джейн Биркин. В 13:30, 16:15, 19 и 21:30.
— 24 января: Программа короткометражных фильмов охватывает пять десятилетий карьеры Антониони и включает «Noto Mandorli Vulcano Stromboli Carnevale», фильм 1992 года, снятый в различных местах Сицилии и снятый для итальянского павильона на выставке Seville Expo в Испании. В полдень, 17:00 и 22:00, повторяется в 14:00. 3 февраля.
Вместе с программой короткометражек: «Красная пустыня» (1964). В первом цветном фильме Антониони снимается Моника Витти в роли проблемной жены инженера, все еще дрожащей после автомобильной аварии, которая встречает приезжего бизнесмена (Ричарда Харриса) и изо всех сил пытается сориентироваться в мире, которому она больше не доверяет.Тихо панический взгляд Антониони на сошедшие с ума технологии, иллюстрированный туманом, грязным промышленным выхлопом и электронным саундтреком, был пророческим. В 14:40 и 19:40.
— 25 января: «Дама без камелий» (1953). Это небольшое произведение о миланской продавщице, ставшей кинозвездой, выходит в 19:00, а затем в 21:20. «Тайна Обервальда» (1980), телефильм Жана Кокто «У орла две головы». Антониони снял фильм как одолжение Витти, которая играет королеву, которая влюбляется в человека, посланного убить ее, и режиссер сказал Чатману, что не считает «Обервальд» одним из своих фильмов.Повторяется в 21:40. 2 февраля.
— 26 января: «Il Grido (Крик)» (1957). Американский актер Стив Кокран играет Альдо, рабочего сахарного завода, который бродит по долине реки По со своей дочерью после того, как жена отвергает его. Чатман называет эту зрелищную драму «поворотным моментом для Антониони … первым фильмом, который продемонстрировал его зрелый стиль и увлечения». В 19:00 повторяется в 22:00. 4 февраля. «L’Avventura» (1960), возможно, определяющая работа Антониони, представляет собой крутое исследование отчуждения.Женщина (Леа Массари) исчезает после ссоры со своим возлюбленным, и до конца фильма возлюбленный (Габриэле Ферзетти) и ее лучший друг (Витти) ищут ее на Лиске Бьянке, необитаемом сицилийском острове. Антониони назвал его «джалло (фильм нуар) наоборот». В 21:30, повторяется в 19:00. 4 февраля.
— 27 января: «Чун Го Китай» (1972). Этот редко показываемый четырехчасовой документальный фильм, снятый по официальному указанию правительства Китая, рассказывает о самой большой нации в мире во время Культурной революции.Китайские власти продиктовали маршрут Антониони, и когда они посмотрели фильм, в котором он отмечает, что «эмоции и несчастья почти невидимы в Китае», они осудили его как «червя, говорящего от имени русских». Восемь лет спустя китайцы официально извинились. В 13:30 и 19:30.
— 28 января: «La Notte» (1961). Марчелло Мастроянни играет известного миланского писателя, а Жанна Моро — жена, которая его не любит, в этом исследовании буржуазного отчаяния и беспокойства.Драма начинается в больничной палате и переносит нас в стриптиз-клуб и ночную вечеринку, прежде чем пара собирается вместе в песочной ловушке на поле для гольфа. В 19:00, повторяется в 21:30. 1 февраля.
«L’Eclisse» (Затмение) (1961) завершает трилогию, начатую «L’Avventura» и «La Notte». Витти играет Витторию, женщину на подъеме, которая встречается с биржевым маклером, которого играет Ален Делон. Оба актера исчезают в последние семь минут фильма, когда Антониони изображает бесплодие римского пригорода.Режиссер назвал этот фильм своим любимым из своих старых фильмов. В 21:30, повторяется в 19:00. 1 февраля.
— 29-30 января: «Пассажирка» (1975). Джек Николсон играет репортера, который меняет свою личность, когда человек, похожий на него, умирает в отдаленном африканском отеле. По словам Антониони, запутанный и неоднозначный, снятый с томной грацией, он об «отношениях человека с самим собой». С Марией Шнайдер, партнером Марлона Брандо по фильму «Последнее танго в Париже».»В 13, 16, 19 и 21:45
— 31 января: «Забриски-Пойнт» (1969). Самая противоречивая и дорогостоящая неудача Антониони подверглась нападкам из-за посторонних взглядов на «Черных пантер», американский капитализм и студенческое восстание 60-х годов. Дарья Халприн, дочь архитектора из Сан-Франциско Лоуренса Халприна и хореографа Анны Халприн, играет хиппи, который встречается с радикалом из Лос-Анджелеса (Марк Фрешетт) и в конце концов занимается любовью в странном пейзаже Долины Смерти.В 13:45, 16:15, 19 и 21:30.
— 2 февраля: «Идентификация женщины» (1982). Возвращаясь к темам начала 60-х годов, Антониони изображает режиссера (Томаса Милиана), ищущего двух женщин: одну для главной роли в его следующем фильме, а другую — на замену его бывшей жене. С фотографией Карло ДиПальма. В 8 часов вечера. Выставлен совместно с «Тайной Обервальда» в 21:40 по московскому времени.
‘МОДЕРНИСТ МАСТЕР’
Ретроспектива Микеланджело Антониони открывается в пятницу и продлится до 4 февраля в Театре Кастро, 429 Castro St., Сан-Франциско. Звоните (415) 621-6120. Круглый стол и прием сериала состоятся в 18:00. Четверг в Istituto Italiano di Cultura по адресу 425 Washington St., Сан-Франциско. Звоните (415) 788-7142).
Микеланджело Антониони — Размышления на серебряном экране
Отчуждение — одно из важнейших событий человеческой жизни. С младенчества до подросткового возраста каждому из нас постоянно служит мир, идеологически созданный для обеспечения нашего благополучия: нас заставляют ходить в школу; наши опекуны устраивают игры с другими детьми; и совершенно незнакомые люди стараются изо всех сил отмечать, какие мы милые, красивые или красивые.
Но затем, когда мы вступаем в подростковый возраст, эта сеть начинает рассеиваться: нам больше не нужно оставаться в школе. Наши родители больше не несут ответственности за нашу социальную жизнь. И другие люди начинают рассматривать нас не как новинку, а как проблему. Теперь дело каждого отдельного ребенка — разобраться в вещах для себя во все более безразличном мире — и в то же время столкнуться с более сложными эмоциями, чем он когда-либо знал раньше. Все внезапно становится абстрактным и непознаваемым.
Каждый, кто доживает до зрелого возраста, испытал отчуждение, но последние три месяца придали этому явлению совершенно новый смысл. Из-за хаоса, который новый коронавирус нанес миру, мы превратились из полностью интегрированных членов общества в отчужденные, изолированные души. На момент написания этого эссе правительство Соединенных Штатов предпринимало первые меры по стимулированию общественной жизни и возобновлению экономики после более чем двух месяцев простоя. Но будущее нации остается неопределенным, и многие опасаются любых неудач или всплесков инфекций, которые могут подстерегать их.
Для меня это было идеальное время вернуться к фильмам Микеланджело Антониони, человека, который (хотя, как ни странно, никогда не обращался к «чуме» как к метафоре) был вечно одержим феноменом отчуждения — особенно как симптомом того, что он видел более широкий современный духовный кризис.
Можно сказать, что Антониони изобрел социальное дистанцирование. Его самые знаменитые фильмы, а именно неофициальная трилогия об отчуждении, в которую входят L’Avventura (1960), La Notte (’61) и L’Eclisse (’62), характеризуются длинными бесцельными отрывками, в которых актер (обычно Моника Витти, с которой он снял пять фильмов) бродит по пустынному ландшафту.Это может быть современный город, скалистый остров, фабрика серого цвета или огромная пустыня: куда бы вы ни повернули, вы там единственный.
Однако, в отличие от нашего текущего момента, это дистанцирование происходит органически, без очевидной или конкретной причины. Одна из самых очаровательных двусмысленностей стиля Антониони заключается в том, выбирают ли персонажи — как в подростковом возрасте, когда границы вокруг самости становятся как более широкими, так и более суженными — дистанцироваться или просто оказываются в таких обстоятельствах.
На самом деле, типичный ответ — оба: герои Антониони имеют тенденцию взывать к своим любовникам, а затем быстро отмахиваются от них. Женщины занимаются любовью с мужчинами, которых они считают подлецами, а затем утешаются среди пустынных древних руин. По мнению Антониони, люди как будто бессознательно вынуждены саботировать свою жизнь из-за того, что им больше нечего делать.
Их логика одинаково запутана: в L’Eclisse мужчина критикует неспособность своей девушки общаться («Вы всегда говорите:« Я не знаю »»), а в La Notte любовница утверждает, что разговор никогда ее ни к чему не приводит («Всякий раз, когда я пытаюсь общаться, любовь исчезает»).Это порочный круг отсутствия усилий; При просмотре этих фильмов у меня постоянно возникал резкий порыв крикнуть: «Всего , попробуй немного !» Если я когда-нибудь встречу Монику Витти, у меня наверняка возникнет вполне разумное желание схватить ее за плечи и встряхнуть.
Но говорить о творчестве Антониони с чисто психологической точки зрения недостаточно. Как бы он ни был предан эстетике отчаяния, он никогда не упускал возможности политизировать его. В большинстве своих фильмов Антониони представляет абстрактную социально-политическую сущность как потенциальный источник современного упадка: в La Notte городское развитие резко контрастирует с поэтическим воображением его главных героев; L’Eclisse наблюдает за беспокойным гротескным деспотизмом, который окрашивает римский фондовый рынок; Красная пустыня (1964 — часто считается четвертым фильмом в «трилогии» об отчуждении) действие происходит на окраине серого, неприступного промышленного предприятия; и Пассажир (‘75) прослеживает кризис идентичности своего героя наряду с партизанской войной и контрабандой оружия в Центральной Африке.
Индустриализм, капитализм, постколониализм — все угрозы экзистенциальной безопасности. А затем в работе «Идентификация женщины » (1982) Антониони обратился к новому врагу: лесбиянству.
Он не торопится, прежде чем добраться до точки. В начале фильма к Никколо (Томас Милиан), режиссеру средних лет, находящемуся в депрессии, подходит незнакомец, который угрожает ему, предупреждая, что, если он знает, что для него хорошо, Никколо должен держаться подальше от женщины, в которую он попал. люблю с.Но по мере развития истории, когда Никколо и его юная возлюбленная Мави (Даниэла Сильверио) страдают паранойей, его девушка оставляет его, чтобы завязать отношения с женщиной. Первоначально позиционируя себя как сдержанный триллер о темной силе романтической незащищенности, первоначальная интрига Identification заменена на иссушающую оценку женщин как непознаваемых объектов тайны.
В этом фильме, выпущенном осенью своей карьеры, Антониони устранил все идеологические отступления, которые он сделал за годы критики «современного мира».(Хотя он по крайней мере в некоторой степени осознает себя: в какой-то момент молодая женщина-гей спрашивает Никколо, почему всем итальянским режиссерам платят за то, чтобы они злились на мир. «Нам также платят за то, чтобы смеяться над этим», — предполагает он. «Это всего лишь еще один способ противостоять этому», — отвечает она.) Хотя он якобы обеспокоен разобщенностью, которая возникает между парами, более внимательное прочтение работы режиссера предполагает, что его беспокойство проистекает из более библейского предписания: опасность умышленного женщины. В самом деле, каждая из его главных героинь озабочена привязанностями неуловимого манипулятивного мужчины — за исключением эпизода «Идентификация женщины» , где секс между женщинами является убогим представлением эффектов феминизма и физически графических сцен «любовных ласк» между ними. Никколо и Мави — рефлексивно враждебные попытки режиссера-мужчины завладеть телом квир-женщины.
Для Антониони именно самоагентство и независимость женщин, а не геополитика, знаменуют конец света; для человека, который годами гонялся за каждым клише в книге либеральной скуки, он никогда не осознавал, что все время скупился на настоящего виновника: белое мужское эго.
Как и в случае с работой таких режиссеров, как Альфред Хичкок или Луи Малле, когда мы пересматриваем фильмы Антониони через призму женоненавистничества, трудно в конечном итоге не классифицировать их как ленивых, беспринципных и уклончивых.Их визуальная привлекательность — элегантные минималистичные картины с участием прекрасных итальянских и французских актеров — давно отвлекала публику от язвительной, непоколебимой души, которая скрывается под ними. Красивость и техническое мастерство не являются адекватными аргументами против более зловещих недостатков этики или скромности в фильмах, и, несмотря на то, что такие выразительные фильмы, как L’Ecclisse и Пассажир , навязчиво несчастны, мы не можем игнорировать, что они также лишенный существенного эмоционального откровения.
Единственный фильм, который приближается к противоположности, — это La Notte — возможно, потому, что это наименее уловка из произведений Антониони. Он начинается с того, что пара Лидия (Жанна Моро) и Джованни (Марчелло Мастроянни) навещают своего умирающего друга. Когда друг рассказывает им о своей последующей кончине, Лидия поражается и выходит наружу; тем временем, когда он выходит из комнаты своего друга, к Джованни в холле обращается неуравновешенная, беспорядочная женщина-пациентка — «истеричная» женщина, которой он пользуется перед вмешательством группы медсестер.(Конечно, медсестры начинают избивать своего пациента, пока Джованни, не беспокоясь, выскальзывает из комнаты.)
Эта пара инцидентов задает атмосферу на весь день, когда Джованни и Лидия едут на собрание, посвященное выходу его нового романа. а затем ночью присоединяйтесь к другой вечеринке в доме могущественного промышленника. (Самый красноречивый отрывок в фильме происходит, когда промышленник, которого Винченцо Корбелла играет в жизненно важном, но тихо апатичном представлении, наклоняется в своем саду, чтобы сорвать одну из своих любимых роз.На ночной вечеринке их знакомят с молодой женщиной по имени Валентина (Витти), которая становится третьей точкой в тупо романтическом треугольнике, побуждая обоих партнеров более открыто задуматься о природе их брака.
Происходящий как раз в середине трилогии об отчуждении, La Notte обнаруживает чувство потери, которое общепризнано, но редко ощущается ни в одном из других фильмов Антониони. В своем фильме прошлого года « L’Avventura » Антониони принял блестящее решение представить главную героиню, Анну (Леа Массари), которая исчезает через тридцать минут, а затем ее не находят; на самом деле, никогда даже не узнали, почему она исчезла.Ее необъяснимое отсутствие становится катализатором для других персонажей, чтобы противостоять пустоте их собственного существования — но что так душераздирающе в La Notte , так это то, что, хотя никто не исчезает, теряется нечто гораздо более деликатное и драгоценное: супружеская любовь.
В отличие от L’Eclisse или Red Desert , в которых место действия или небесное событие добавлено как свободная метафора для отчаяния его персонажей, La Notte использует однодневное погружение во тьму (и последующий за ним рассвет ) как размеренное, чуткое продолжение жестких, бескомпромиссных эмоций Лидии и Джованни.Изысканно спроектированные парой буржуазных окрестностей в сочетании с низким чернильным освещением и собственными тощими, похожими на тень фигурами актеров, блуждающими мимо камеры, составляют своего рода философско-эстетическую элегантность. Это единственный раз в более поздней фильмографии Антониони, когда на протяжении двух часов содержание соответствует форме по тонкости и глубине. Другими словами, La Notte заслуживает уныния.
В целом, однако, фильмы Микеланджело Антониони представляют незрелое мировоззрение — такое, которое определяет отчуждение как фундаментальное качество современной жизни и, таким образом, избегает более всеобъемлющей оценки «современности».Он не признает каких-либо более серьезных идиосинкразий в человеческом поведении и уклоняется от ответственности более пристального исследования своих собственных предрассудков. Конечно, в мире, в котором мы живем, есть многое, что только выражало бы пессимистическое мнение Антониони, если бы он был жив, чтобы это увидеть. (Подумайте только, что он сделал бы с мобильными телефонами и Snapchat.) Тем не менее, одно из откровений, которые я получил во время этой пандемии, мало чем отличается от того, что молодые люди обнаруживают, впервые совершая самостоятельный удар: что люди, несмотря на все заповеди, склонны проявляться друг для друга.
Быть свидетелем того, как настойчиво люди в последнее время стремились укрепить сообщество — посредством звонков Zoom, потоковых музыкальных представлений и местных волонтерских усилий — значит осознать, что в широком масштабе люди имеют способ адаптироваться к кризисам в неожиданных обстоятельствах. -напухающие пути. Из-за этого трудно поддерживать пессимизм; фильмы Микеланджело Антониони в конечном итоге неубедительны, как своей скучной торжественностью, так и своей устаревшей политикой.
Смотреть Red Desert или Пассажир или даже La Notte сегодня означает задаться вопросом, как, если он умер шестьдесят лет назад, человеческому духу, возможно, удалось сохраниться.Ответ на этот вопрос — гибель Антониони.
За самым известным фильмом о фотографии
Дэвид Хеммингс и Верушка фон Лендорф в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони), 1966 год, автор: Тацио Секкиароли. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. Микеланджело Антониони), 1966 год, автор — Артур Эванс Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co.- Развлекательная компания Warner Bros — любезно предоставлено Филиппом Гарном. Модели в увеличенном масштабе (Реги: Микеланджело Антониони), 1966 — Артур Эванс. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Развлекательная компания Warner Bros — любезно предоставлена Филиппом Гарном Дэвидом Хеммингсом. в фильме «Взрыв» (Реджи: Микеланджело Антониони), 1966, Артур Эванс. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Развлекательная компания Warner Bros. — любезно предоставлено Филиппом Гарне. Брайан Эпштейн (Коробка картинок), 1965, Дэвид Бейли V&A Images / Музей Виктории и Альберта Грейс и Телма, Итальянский Vogue, 1966 год, Эрик Суэйн Предоставлено Томом Суэйном Дэвид Бейли фотографирует Мойру Свон, 1965 год, Терри О’Нил Предоставлено Филиппом Гарнером Безудержно умоляет о помощи, Олдгейт , 1963 Дон МакКуллин Дон Маккаллин — Предоставлено галереей Hamiltons, Лондон Donyale Luna am Set von Blow-Up, 1966 Дэвид Монтгомери Дэвид Монтгомери Дэвид Хеммингс в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони), 1966, автор: Артур Эванс Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co.- Компания Warner Bros Entertainment — любезно предоставлена Филиппом Гарном. Томас, взорванный в парке, 1966, автор: Дон МакКуллин. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Развлекательная компания Warner Bros. — предоставлено Филиппом Гарнером. Swingeing London III, 1972 Рихард Гамильтон Художественный музей Винтертур, Анкауф / Швейцарский институт художественного искусства, Цюрих, Жан-Пьер Кун Джейн Биркин, 1960-е годы Брайан Даффи Брайан Даффи Дэвид Хеммингс в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони, 1966, 1966) Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co.- Компания Warner Bros Entertainment — любезно предоставлено Филиппом Гарном
«Это моя работа. Некоторые люди — тореадоры. Некоторые люди — политики. Я фотограф », — говорит Томас, главный герой культового классического фильма Микеланджело Антониони и лучшего кассового фильма 1966 года« Blow-Up ».
Томас, которого играет Дэвид Хеммингс, является модным и дерзким модным фотографом в лондонских «Swinging Sixties», в эпоху, когда британские фотографы доминировали и поддерживали распространение глянцевых моделей в журналах. Сегодняшняя далекая мечта для фотографов, он ездит по городу на Rolls Royce, и молодые честолюбивые модели преследуют его, чтобы сфотографироваться.Несмотря на свой успех и связанные с ним гедонистические вознаграждения, Томасу все больше наскучивает его коммерческая работа, и он все больше обращается к социальному документальному потенциалу фотографии, репортажам и уличной съемке. В буквальном смысле подрабатывая ночами, снимая незаметные кадры в приюте для бездомных, Томас встречает обнимающуюся пару в парке Мэрион и становится на колени, чтобы запечатлеть откровенный момент.
Это действие вызывает сильное беспокойство у женщины, которую изображают, которую играет Ванесса Редгрейв, которая требует увидеть изображение и пытается выхватить его фотоаппарат.Он отвечает нашей вступительной цитатой, чтобы разрядить обстановку. Но его любопытство достигло максимума. Позже он запирается в своей темной комнате, чтобы проявить и увеличить негативы. Внимательно изучив свои «взрывы», Томас находит в кустах человека с пистолетом. Несколькими кадрами позже он обнаруживает, что вполне могло быть безжизненным телом трупа. Одержимый перспективой непреднамеренно заснять на камеру преступление, караемое смертной казнью, Томас перефотографирует свое увеличение на слайд-пленку и продолжает присматриваться.
«Фотографии оказываются двусмысленными в качестве доказательства, однако их увеличение не делает мотивы более ясными или разборчивыми», — пишет Клаузе Альбрехт Шредер, директор первой в истории крупной выставки, исследующей фильм 1966 года через единственное перспектива фотографии. «Напротив, это делает их все более размытыми и абстрактными».
«Только на поверхности раздутие создает напряжение триллера», — продолжает Шредер. «Их настоящая цель — дать возможность режиссеру развить визуальный дискурс по вопросу о том, как представлена реальность, и о фундаментальной амбивалентности фотографий.”
Почти полвека назад в том, что он назвал своим самым автобиографическим фильмом, известный итальянский режиссер Антониони пришел к выводу, что реальность через линзу — это всего лишь конструкция среды, которая важна: мы видим то, что хотим видеть. Его аргумент — это художественная предпосылка, которую многие современные фотографы все еще воплощают в своих работах. Это также предвосхищает кризис репрезентации, с которым мы сталкиваемся по сей день, даже будучи критиками фотожурналистики, когда мы пытаемся увеличивать масштаб и анализировать пиксель за пикселем то, что может считаться истинным при механическом воспроизведении так называемой реальности.
Дэвид Хеммингс в фильме «Взрыв» (Реги: Микеланджело Антониони), 1966 год, Артур Эванс. Neue Visionen Filmverleih GmbH / Turner Entertainment Co. — Компания Warner Bros Entertainment — любезно предоставлено Филиппом Гарне.
«Взрыв: Классический фильм Антониони и фотография», в главном офисе Берлина до 10 апреля 2015 года — головокружительный взгляд на многослойное исследование фотографии Антониони. Создатель фильма использовал его не только в качестве сюжета, но и как инструмент теоретической рефлексии, «вплетенный в саму ткань фильма», — пишет Уолтер Мозер, соредактор сопутствующего каталога.Изданная Hatje Cantz, книга с 1020 иллюстрациями и 280 страницами поставляется в искусно упакованной пластиковой лупе.
Представленные работы на выставке и в книге включают кадры из фильма с раскадровкой, а также производственные кадры, сделанные британским фотографом Артуром Эвансом. Антониони нанял его специально для съемок во время съемок для рекламных изображений, а в некоторых случаях перестраивал сцены только для кадров. Несколько других известных фотографов были приглашены для съемки определенных моментов, в том числе Терри О’Нил, Ив Арнольд из Magnum, итальянский папараццо Тацио Секкиароли и многие другие.
Выставка также помещает фильм в фотоисторический контекст, демонстрируя работы британских модных фотографов Дэвида Бейли, Брайана Даффи и Теренса Донована, известных как «Черная троица», в которых Антониони черпал прямое вдохновение, отправляя им и другим любопытные анкеты, посещение их студий, наблюдение за ними в действии. В современной перспективе кураторы также включают изображения художников, вдохновленных созданием фильма, и ссылаются на них в своих работах по сей день.
Наконец, есть фотографии, которые появляются в самом фильме, выставленные в студии Томаса, такие как «Верблюжий поезд, 1966» Джона Коуэна и «Цикл II, 1965» Питера Седгли, намекающие на абстракцию предполагаемого Томаса. захват места преступления.Однако наиболее интересными являются изображения реквизита, сделанные для реальных увеличений. Для этого Антониони специально нанял известного военного фотографа и социального документалиста Дона МакКаллина за гонорар в 500 фунтов. Двадцать четыре его классических изображения Ист-Лондона также использовались в качестве заменителя книжного макета документальной работы Томаса.
Для сцены в парке Маккаллин был рядом, чтобы посоветовать актеру, играющему Томаса, как правильно обращаться с камерой, какой язык тела передать. Там он также присел в том же месте, что и Томас, чтобы запечатлеть пару с того же угла, используя ту же камеру, Nikon F.Антониони проинструктировал Маккаллина, что делать, но для максимальной достоверности так и не объяснил, что происходит. Как и Томас, Маккаллин ничего не знал о человеке в кустах, который запечатлел его кадр, прежде чем передать свои негативы. Что характерно, в интервью Мозеру в прошлом году Маккаллин описал свой опыт съемок на съемочной площадке как сбивающий с толку — это было «сюрреалистично».
«Взрыв: Классический фильм Антониони и фотография» будет показан в Центральном офисе Берлина до 10 апреля 2015 года.Каталог выставки доступен через Hatje Cantz.
«Искусство кино: Blow-Up» — это пятинедельная серия показов фильмов Микеланджело Антониони в Художественном музее Сиэтла, представленная Северо-западным кинофорумом. Начиная с «Blow-Up» 24 февраля, каждый вторник по 24 марта 2014 года в музее будут показывать разные фильмы Антониони.
Пассажир: Эпический выстрел
Как кинематографический вызов превратился в выдающееся произведение производственной виртуозности в руках Лучано Товоли, ASC, AIC.
Примечание. В этой статье раскрываются ключевые аспекты сюжета фильма.
Режиссер Микеланджело Антониони и оператор Чезаре Аллионе выстраивают кадр со своей основной камерой, Mitchell BNCR.
Экзистенциальная нео-нуарная драма 1975 года режиссера Микеланджело Антониони « Пассажир» (Профессия: репортер) излучает чувство таинственности, пронизывающее каждый кадр, которое распространяется и на саму постановку, особенно на предпоследний снимок картины. Этот семиминутный «невозможный» ход камеры, выполненный оператором Лучано Товоли, ASC, AIC и очень способной командой, стал легендой.
Когда захватывающая драма завершается в сельском испанском городке, наш главный герой, морально сомнительный тележурналист по имени Лок (Джек Николсон), лежит в постели своего обшарпанного отеля и тушит сигарету, пока камера смотрит на пыльную уличную сцену за его пределами. стальные решетки безопасности, защищающие его дверной проем. Когда он дремлет, прибывает убийца, чтобы покончить с собой, когда его неназванная подруга (Мария Шнайдер), его жена Рэйчел (Дженни Рунэйкр) и полиция сходятся:
«Как вы, возможно, знаете, я никогда не был в киношколе», — сказал Антониони о своем творческом процессе во время пресс-конференции, состоявшейся на четвертом ежегодном Тегеранском международном кинофестивале (освещено в AC Feb.1976), в котором была представлена ретроспектива 14 полнометражных фильмов итальянского режиссера, в том числе «Пассажирский ». «Я никогда не изучал кино ни в одной школе. Я отдаюсь своим инстинктам и своим чувствам. Я следую своим инстинктам и своим чувствам — и я не пытаюсь сесть, подумать и разработать схемы действий ».
Съемочная группа снимает очередной эпизод картины с Джеком Николсоном в пустынях Алжира.
Но это не значит, что Антониони — некогда эмоционально вдохновленный — не до конца все продумал, особенно когда дело дошло до выполнения сложной установки, такой как эта в The Passenger. «Идея сделать этот кадр пришла мне в голову в начале съемок фильма, но я все время спрашивал себя, как я смогу это реализовать, потому что это казалось невозможным», — пояснил режиссер. «Чтобы достичь того, что я намеревался сделать, я рассмотрел множество решений, много разных способов сделать это, но я обнаружил, что все эти методы были довольно обычными, обычными, клише для работы в кино. Это были вещи, которые уже были сделаны, и ни одна из них не служила моей цели.Я все больше и больше старался найти способ ».
Объясняя свое видение Товили во время подготовки, Антониони рассказал, что хотел бы в фильме сделать снимок, который перешел бы от «субъективности к объективности», как позже описал оператор. Это частично продолжило бы мотивы переноса и трансформации повествования. «И я хочу добиться объективности без каких-либо сокращений», — пояснил Антониони, согласно Товоли. «Итак, мы должны сделать общий план, начиная с главного героя — установив субъективный взгляд [с ним в номере отеля], — а затем мы выходим из этого окна и наблюдаем за ситуацией объективным образом.«Это было основополагающим для фильма».
Но техника выполнения грандиозного выстрела оставалась загадкой. К счастью, Антониони и Товоли натолкнулись на возможное решение: «Мы поехали в Лондон, чтобы снять несколько сцен для фильма, и именно там я наткнулся на камеру, сделанную в Канаде. Это была новая кинокамера, и я обнаружил, что предоставляемые ею возможности могут помочь мне сделать то, что я намеревался достичь ».
Рассматриваемая установка камеры, используемая в документальном фильме, была Wescam, гиростабилизированной системой аэрофотосъемки, первоначально разработанной для канадских вооруженных сил и модифицированной кинематографистом и изобретателем Роном Гудманом для использования в кинопроизводстве.Позднее с помощью Говарда Престона она была преобразована в гиросферу в 1980 году, а затем Гудман разработал совершенно новую систему стабилизации и в 1989 году стал соучредителем новой компании SpaceCam Systems, которая существует и по сей день. Во время производства Пассажирский , Гудман работал по всей Европе с Wescam, а позже внесет свой вклад в воздушное освещение фильмов, включая Супермен (1978) и Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар (1980).
«Как вы знаете, в начале нашей сцены мы находимся в спальне», — продолжил Антониони. «Затем камера начинает плавно двигаться вперед. Он очень медленно достигает окна, а затем выходит через окно наружу. Это движение не достигается обычным способом установки камеры на обычную дорожку на земле. Вместо этого направляющая фактически устанавливается на потолке, а камера подвешивается к этой направляющей ».
Вот четкий вид на верхнюю дорожку камеры и установку Wescam с ручками управления оператора.Хотя съемка была сделана в сумерках, чтобы уменьшить разницу между освещением внутри комнаты и снаружи, внутри все еще требовалось сильное освещение, чтобы уравновесить два пространства и исключить необходимость регулировки диафрагмы при перемещении камеры на улицу.
«Рельс, установленный на потолке, фактически продолжается на расстояние одного метра за окном в открытое пространство. Когда камера достигает окна, чтобы избежать попадания решетки за окном, можно слегка увеличить ее, чтобы вынуть решетку из рамы.”
Чтобы помочь в этом, большой защитный кожух, в котором обычно размещался Wescam, был удален, чтобы уменьшить габаритные размеры установки.
Режиссер продолжил: «По мере того, как камера продолжает двигаться наружу, оконная решетка мягко открывается — мы этого не видим — и теперь мы находимся за пределами комнаты, а камера подвешена к концу перил. Но движение камеры должно продолжаться. Для этого за зданием был установлен высокий кран таким образом, чтобы крюк на конце троса, свисающего со стрелы крана, находился на одном уровне с концом рельса, на котором подвешена камера.”
Сверху захваты прикрепляют камеру к воздушному проводу, который будет продолжать свое «плавающее» движение мимо жесткой направляющей в гостиничном номере. Обратите внимание, что металлическая решетка открыта для прохождения камеры, которая затем закрывается за ней.
«Теперь проблема в том, чтобы перенести камеру с фиксированной рейки на крючок, подвешенный на конце кабеля, который не так закреплен. У нас было два оператора, два специалиста, которые сидели и ждали, чтобы снять камеру с рельса и повесить ее на крюк, подвешенный на тросе к концу стрелы.Теперь, как решить проблему предотвращения скачка или рывка при переносе рельса на трос? »
Установка полностью подвешена на подвесной тросовой системе.
«Именно здесь мне на помощь приходит специальная камера [Wescam], сделанная в Канаде, потому что в ней есть гироскопические установки и амортизаторы, которые устойчивы к ударам и вибрации. Они фактически поглощают удары и обеспечивают определенную свободу движений и рывков, при этом эти движения не отображаются на экране. Эта установка выполняет работу DynaLens без использования DynaLens, и это то, что помогло мне снять камеру с рейки и зацепить ее за кабель, не показывая рывков или прыжков.”
Запатентованный в 1960-х годах корпорацией Dynasciences, DynaLens представлял собой оптическое стабилизирующее устройство, которое можно было установить на оптической оси любой камеры — фото или видео — для компенсации движения изображения из-за вибрации.
«Теперь мы находимся в точке, где камера была установлена на конце троса, свисающего со стрелы крана», — продолжил Антониони. «На камере были установлены специальные ручки, чтобы ее можно было удерживать устойчиво, и там есть оператор, который будет держаться за эти ручки.Теперь движение продолжается, и камера перемещается по квадрату, следуя за различными персонажами. Тем временем решетка перед окном снова закрыта, так что к тому времени, когда камера совершит полное движение по площади и вернется к этому окну, мы увидим, что металлическая решетка закрыта.
«Теперь, как я направлял движения камеры и действия оператора камеры? Я был внутри фургона, в котором был экран наблюдения — что-то вроде видеомонитора, на котором я мог точно видеть то, что оператор мог видеть в видоискателе.С помощью микрофона я мог отдавать приказы актерам, контролируя их движения, а также мог давать инструкции оператору камеры, который затем следовал и делал в точности то, что я хотел от него.
«Весь процесс занял 11 дней из-за точного характера работы и хрупкости камеры [Wescam], которая, несмотря на все амортизаторы и гаджеты, очень чувствительна и требует очень осторожного обращения. В данном случае он был особенно чувствительным, потому что для того, чтобы он мог пройти через решетку окна, нам пришлось вытащить его из большого коробчатого дирижабля, который обычно защищает его.В противном случае он не смог бы пройти через решетку.
«Другой серьезной проблемой был ветер, который постоянно дул и вызывал движение кабеля, что, в свою очередь, нарушало движения, которые мы имели в виду. Поэтому нам приходилось ждать «безветренных» моментов, когда мы действительно могли продолжить свои дела.
«После того, как мы потратили 11 дней на съемку этой сцены и наконец получили то, что хотели, на 12-й день произошел циклон, который разрушил всю установку — деревню, здание, все!»
Режиссер и съемочная группа устанавливают специальную буровую установку.
Товоли, как известно, вернется к этому творческому использованию непрерывного движения камеры в следующей картине, стильном триллере режиссера Дарио Ардженто « Tenebre » (1982), где женщина, нервничающая из-за серии ужасных убийств, бросается к окну. , запуская кадр с краном Louma, специально подобранный для усиления напряженности сцены. POV намеренно перемещается от объекта к ее дому, заглядывая в разные окна, прежде чем приземлиться на таинственную фигуру в черном, врывающуюся в жилище на другой стороне строения:
Оба кадра остаются важным напоминанием о том, как творческое вдохновение и техническая хватка могут объединиться, чтобы создать великолепное кино.
Новый Blu-ray проигрыватель The Passenger должен выйти 22 сентября.
Аудиокнига недоступна | Audible.com
Evvie Drake: более чем
Роман
По:
Линда ХолмсРассказал:
Джулия Уилан, Линда ХолмсПродолжительность: 9 часов 6 минут
Несокращенный
В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.
3 из 5 звезд
Что-то заставляло меня слушать….
По
Каролина Девушка
на
10-12-19
Микеланджело Антониони и вопрос живописи
Научно-исследовательский семинар
- Публичное мероприятие / участие возможно через увеличение
Дата:
22.10.2020
Uhrzeit:
11:30 — 13:00
Фортрагенде:
Матильда Нарделли
Гастгебер:
Bibliotheca Hertziana — Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte
Контакт:
Изображение: Still, «Deserto Rosso», 1961 год
Этот доклад исследует связи между кинематографом Микеланджело Антониони и живописью 1960-х и 1970-х годов. Интермедиальность кино и живописи проблематизирует понятия чистоты в обоих искусствах.Почему кино Антониони часто считают чистым и абстрактным?
Этот доклад направлен на то, чтобы бросить вызов доминирующему мнению о кино Антониони как о чистом, абстрактном и обязанном живописи.

 Совпадение или нет, но взаимодействие искусств идёт и в самом сюжете фильма. Идёт пересечение двух изобразительных жанров – живописи и фотографии. Живопись более древний вид, с помощью которого люди создают искусственную красоту собственными руками ещё с античных времён, в то время как фотография появилась относительно недавно, и фотоаппарат служил по большей части, как устройство, запечатлевающее реальность. Главный герой, как уже было упомянуто, стал свидетелем преступления, где запечатлел нечто непонятное, что его очень притягивает.
Совпадение или нет, но взаимодействие искусств идёт и в самом сюжете фильма. Идёт пересечение двух изобразительных жанров – живописи и фотографии. Живопись более древний вид, с помощью которого люди создают искусственную красоту собственными руками ещё с античных времён, в то время как фотография появилась относительно недавно, и фотоаппарат служил по большей части, как устройство, запечатлевающее реальность. Главный герой, как уже было упомянуто, стал свидетелем преступления, где запечатлел нечто непонятное, что его очень притягивает. Второй вопрос: а как оно формируется? Вот, как раз, через модные журналы с фотомоделями. Имеет ли ценность кусок разломанной гитары в реальной жизни? Нет. А если это кусок гитары твоего любимого исполнителя, которую он при тебе разломал и кинул в толпу? Конечно имеет ценность, и очень большую. Только ценность эта в контексте музыки, которой ты фанат, как и красота девушки ценна только в контексте общественного идеала. Примеров такого контекста в фильме предостаточно: миротворческие плакаты, антикварные вещи, абстрактные художества – все имеют ценность, но в контексте какой-то человеческой отрасли, но в отрыве от действительности. В реальной жизни, для человека представляет ценность самые обыкновенные вещи, которые есть почти у всех. Но цель не в том, чтобы отказаться от всех навязанных идеалов, а в важности иметь чистый взгляд на определённые вещи. Вот и складывается довольно мрачное видение общества, но как одним из способов возможного выхода, режиссёр предлагает смотреть на некоторые вещи не в контексте, а в отрыве от него. Этим можно избежать сковывания навязанной подменой мышления. Этот момент как раз таки был показан с куском гитары, украденной из места, в котором он представляет великую ценность для всех находящихся, и вынесен на улицу, где эта вещь превращается в никому не нужный мусор. Тратя своё бесценное время на разнообразную навязанную чепуху, человек лишает себя ощущения трезвости жизни, а ведь это самое ценное что может быть.
Второй вопрос: а как оно формируется? Вот, как раз, через модные журналы с фотомоделями. Имеет ли ценность кусок разломанной гитары в реальной жизни? Нет. А если это кусок гитары твоего любимого исполнителя, которую он при тебе разломал и кинул в толпу? Конечно имеет ценность, и очень большую. Только ценность эта в контексте музыки, которой ты фанат, как и красота девушки ценна только в контексте общественного идеала. Примеров такого контекста в фильме предостаточно: миротворческие плакаты, антикварные вещи, абстрактные художества – все имеют ценность, но в контексте какой-то человеческой отрасли, но в отрыве от действительности. В реальной жизни, для человека представляет ценность самые обыкновенные вещи, которые есть почти у всех. Но цель не в том, чтобы отказаться от всех навязанных идеалов, а в важности иметь чистый взгляд на определённые вещи. Вот и складывается довольно мрачное видение общества, но как одним из способов возможного выхода, режиссёр предлагает смотреть на некоторые вещи не в контексте, а в отрыве от него. Этим можно избежать сковывания навязанной подменой мышления. Этот момент как раз таки был показан с куском гитары, украденной из места, в котором он представляет великую ценность для всех находящихся, и вынесен на улицу, где эта вещь превращается в никому не нужный мусор. Тратя своё бесценное время на разнообразную навязанную чепуху, человек лишает себя ощущения трезвости жизни, а ведь это самое ценное что может быть. ‘Зачем говорить?’ — ответит она на вопрос о своем безмолвии, чем, кажется, достигнет предела нелепости, ненужности бытия. Наслаждение недостижимо, природа блокирует возможности сознания. И дальше что? Ингмар Бергман озадачил мир, не оборачивая его в готически мрачную обертку и не опережая время феноменами пост-панковой культуры. Шведскому режиссеру никто не смог ответить на всеобъемлющий вопрос его героини. И Микеланджело Антониони скажет почему. Бродя в пучинах бездны абсурдизма, закутанной в неспокойные 1960-е, великий итальянец мало-помалу раскрывает истину массового бытия, которое прячется под словами об индивидуальности и на самом деле оказывается еще одной доской в деревянном полу. Какое дело доскам до гноссеологического ‘зачем?’ — это Антониони и показывает в ‘Фотоувеличении’, чем наглядно заявляет о ненадобности им идей экзистенциализма, от Кьеркегора до Камю. Потому что отломанный гриф гитары дороже всевышних познаний.
‘Зачем говорить?’ — ответит она на вопрос о своем безмолвии, чем, кажется, достигнет предела нелепости, ненужности бытия. Наслаждение недостижимо, природа блокирует возможности сознания. И дальше что? Ингмар Бергман озадачил мир, не оборачивая его в готически мрачную обертку и не опережая время феноменами пост-панковой культуры. Шведскому режиссеру никто не смог ответить на всеобъемлющий вопрос его героини. И Микеланджело Антониони скажет почему. Бродя в пучинах бездны абсурдизма, закутанной в неспокойные 1960-е, великий итальянец мало-помалу раскрывает истину массового бытия, которое прячется под словами об индивидуальности и на самом деле оказывается еще одной доской в деревянном полу. Какое дело доскам до гноссеологического ‘зачем?’ — это Антониони и показывает в ‘Фотоувеличении’, чем наглядно заявляет о ненадобности им идей экзистенциализма, от Кьеркегора до Камю. Потому что отломанный гриф гитары дороже всевышних познаний. Таково первое впечатление. И даже роковое желание Джейн отдаться за пленку не останавливает фотографа. Уже тогда он допустил недопустимое.
Таково первое впечатление. И даже роковое желание Джейн отдаться за пленку не останавливает фотографа. Уже тогда он допустил недопустимое. Однажды к ним на выступление, более похожее на молебен из-за никакого поведения фанатов, заглянет Томас, кто запутался в лабиринте собственных ребусов. Покинет он клуб только с куском сломанной гитары, которую Джефф Бек разобьет в манере Пита Таусенда из The Who и кинет в руки блондину с каменным лицом. В смертельной схватке за обладание реликвией он убегает из клуба, чтобы потом выбросить деревяшку со струнами, как ненужный хлам. То же сделает и рядом стоящий молодой рокер. Джимми Пейдж как-будто знал всю суть этой побрякушки, не стоящей и ломаного цента, отчего саркастически улыбался, когда смотрел на ристалище только что прибывавших в монолитном стоянии поклонников. Концерт оказался фальшью — как и вся история, но Томас еще не понимает того. Он продолжает ковыряться в надуманной таинственности, которой нет.
Однажды к ним на выступление, более похожее на молебен из-за никакого поведения фанатов, заглянет Томас, кто запутался в лабиринте собственных ребусов. Покинет он клуб только с куском сломанной гитары, которую Джефф Бек разобьет в манере Пита Таусенда из The Who и кинет в руки блондину с каменным лицом. В смертельной схватке за обладание реликвией он убегает из клуба, чтобы потом выбросить деревяшку со струнами, как ненужный хлам. То же сделает и рядом стоящий молодой рокер. Джимми Пейдж как-будто знал всю суть этой побрякушки, не стоящей и ломаного цента, отчего саркастически улыбался, когда смотрел на ристалище только что прибывавших в монолитном стоянии поклонников. Концерт оказался фальшью — как и вся история, но Томас еще не понимает того. Он продолжает ковыряться в надуманной таинственности, которой нет. Не существующий для Томаса… или для зрителя: кто знает, что теперь является правдой, а что ложным отражением. Он растворяется в яркости — в радиоактивно-зеленой траве, напыщенной контрастностью. Фотограф проиграл битву с несуществующей важностью и принял правила других. Он выбрал не золото, а песок, хотя блестело и то, и другое. Именно это и нужно большинству — блеск, а не суть, ибо к ней надо приблизиться.
Не существующий для Томаса… или для зрителя: кто знает, что теперь является правдой, а что ложным отражением. Он растворяется в яркости — в радиоактивно-зеленой траве, напыщенной контрастностью. Фотограф проиграл битву с несуществующей важностью и принял правила других. Он выбрал не золото, а песок, хотя блестело и то, и другое. Именно это и нужно большинству — блеск, а не суть, ибо к ней надо приблизиться. За этим фасадом терялись даже слова самого режиссера о собственных картинах.
За этим фасадом терялись даже слова самого режиссера о собственных картинах. Мире, в котором научный прогресс коснулся не только внешних сторон жизни, но и коренным образом изменил взгляд на духовные ценности: любовь, мораль, семейный уклад.
Мире, в котором научный прогресс коснулся не только внешних сторон жизни, но и коренным образом изменил взгляд на духовные ценности: любовь, мораль, семейный уклад. Мимы, как и Хэммингс, видят то, что необозримо для остальных. Мимы – тоже художники, раз за разом создающие свой собственный мир.
Мимы, как и Хэммингс, видят то, что необозримо для остальных. Мимы – тоже художники, раз за разом создающие свой собственный мир. Предельно модный и бесконечно наглый фотограф Томас ведет рабоче-богемную работу у себя в студии-доме. Потоком проходят модельной внешности бестолковые шлюшки, которые хотят «попасть на карандаш» к Тому, а за это между делом и ножки раздвинуть. А когда Томасу надоедает работать в студии, он садится в свой моднючий кабриолет «Роллс-ройс» и едет осматривать «по дешевке продающийся» антикварный магазин. И там, между делом покупая пропеллер от самолета (вот нахрена ему пропеллер?), Том углубляется в ближайший парк, где начинает тайком фотографировать странных влюбленных. И вот здесь происходит интересная метаморфоза. Заметившая его девушка вдруг решительно и напористо требует отдать ей пленку. Но Томас – ах этот наглый Томас – вежливо посылает девушку и углубляется в свои текущие дневные проблемы. А зря, потому что именно здесь началась иррационально-криминальная завязка этой истории…
Предельно модный и бесконечно наглый фотограф Томас ведет рабоче-богемную работу у себя в студии-доме. Потоком проходят модельной внешности бестолковые шлюшки, которые хотят «попасть на карандаш» к Тому, а за это между делом и ножки раздвинуть. А когда Томасу надоедает работать в студии, он садится в свой моднючий кабриолет «Роллс-ройс» и едет осматривать «по дешевке продающийся» антикварный магазин. И там, между делом покупая пропеллер от самолета (вот нахрена ему пропеллер?), Том углубляется в ближайший парк, где начинает тайком фотографировать странных влюбленных. И вот здесь происходит интересная метаморфоза. Заметившая его девушка вдруг решительно и напористо требует отдать ей пленку. Но Томас – ах этот наглый Томас – вежливо посылает девушку и углубляется в свои текущие дневные проблемы. А зря, потому что именно здесь началась иррационально-криминальная завязка этой истории… Нам показывают нагловато-самовлюбленного позера в исполнении 25-летнего Дэвида Хеммингса играющего главного героя-фотографа. Персонаж, равно как и исполнение, прямо скажу – на любителя. Слишком много отталкивающих моментов и слишком много самолюбования. А еще много сквозных символов, которым перенасыщен фильм, что делает всю постановку размыто-аморфной.
Нам показывают нагловато-самовлюбленного позера в исполнении 25-летнего Дэвида Хеммингса играющего главного героя-фотографа. Персонаж, равно как и исполнение, прямо скажу – на любителя. Слишком много отталкивающих моментов и слишком много самолюбования. А еще много сквозных символов, которым перенасыщен фильм, что делает всю постановку размыто-аморфной. В следующем году на съемках во Франции она познакомится с Сержем Генсбуром, станет его музой и тогда о Биркин узнает уже вся Европа. Ну а здесь она обильно продемонстрировала свои маленькие сиськи. Ах да, это ведь был первый полнометражный английский фильм, в котором бабы полностью обнажались. И показательно, что британцев «распечатал» итальянец.
В следующем году на съемках во Франции она познакомится с Сержем Генсбуром, станет его музой и тогда о Биркин узнает уже вся Европа. Ну а здесь она обильно продемонстрировала свои маленькие сиськи. Ах да, это ведь был первый полнометражный английский фильм, в котором бабы полностью обнажались. И показательно, что британцев «распечатал» итальянец. Этот интересный прием обмана зрительских ожиданий был вновь использован самим Антониони в фильме «Фотоувеличение», и многими современными режиссерами – Питером Уиром в «Пикнике у Нависшей скалы» и Атомом Эгояном в «Славном будущем».
Этот интересный прием обмана зрительских ожиданий был вновь использован самим Антониони в фильме «Фотоувеличение», и многими современными режиссерами – Питером Уиром в «Пикнике у Нависшей скалы» и Атомом Эгояном в «Славном будущем». Итак, одна из главных черт новой эпохи – эстетизация бытия, взаиморастворение искусства и жизни — аллегорически преподносится уже в первой сцене фильма.
Итак, одна из главных черт новой эпохи – эстетизация бытия, взаиморастворение искусства и жизни — аллегорически преподносится уже в первой сцене фильма.

 Может быть они хотели показать безразличие, упадок нравственных ценностей, смещение жизненных принципов молодежи? Наверное, этим и объясняется поведение персонажа. Например, как главный герой видит тело человека? В одном случае – это мертвое тело, которое является лишь объектом профессионального любопытства, удачным реквизитом для редкого фото. В другом – женское тело. Живое, молодое, красивое, но в глазах фотографа бездушное, похожее на манекен и желанное только для совокупления. Главного персонажа можно охарактеризовать как флегматичного человека, лишенного чувств любви и ревности. Подтверждению этому эпизод, в котором он приходит в дом к своей бывшей девушке и видит ее занимающуюся любовью. Ни тени удивления, ни желания закатить истерику. Посмотрел спокойно, тихо закрыл дверь и вышел. Поэтому если начать разбирать поступки героя, то они нам покажутся бессмысленными. Но если представить персонажа, да и остальных героев, ни как участников сюжета, а как средство выражения и демонстрации настроения общества в тот период, то будет ясно откуда это легкомыслие и отрешенность.
Может быть они хотели показать безразличие, упадок нравственных ценностей, смещение жизненных принципов молодежи? Наверное, этим и объясняется поведение персонажа. Например, как главный герой видит тело человека? В одном случае – это мертвое тело, которое является лишь объектом профессионального любопытства, удачным реквизитом для редкого фото. В другом – женское тело. Живое, молодое, красивое, но в глазах фотографа бездушное, похожее на манекен и желанное только для совокупления. Главного персонажа можно охарактеризовать как флегматичного человека, лишенного чувств любви и ревности. Подтверждению этому эпизод, в котором он приходит в дом к своей бывшей девушке и видит ее занимающуюся любовью. Ни тени удивления, ни желания закатить истерику. Посмотрел спокойно, тихо закрыл дверь и вышел. Поэтому если начать разбирать поступки героя, то они нам покажутся бессмысленными. Но если представить персонажа, да и остальных героев, ни как участников сюжета, а как средство выражения и демонстрации настроения общества в тот период, то будет ясно откуда это легкомыслие и отрешенность. Поэтому по принципу фильма нарекаю его Фрэнком. Ибо не имеет значения, как я его зову.
Поэтому по принципу фильма нарекаю его Фрэнком. Ибо не имеет значения, как я его зову. Те же выступления музыкальной группы в клубе, где кусок гитары кажется ценным и за него идет борьба. Но когда он выходит наружу эта деревяшка уже не представляет никакой ценности. И ценных вещей в этом мире нет, хоть владеть ими много кто хочет.
Те же выступления музыкальной группы в клубе, где кусок гитары кажется ценным и за него идет борьба. Но когда он выходит наружу эта деревяшка уже не представляет никакой ценности. И ценных вещей в этом мире нет, хоть владеть ими много кто хочет. Первостепенная и основная задача- поймать удачный кадр. Зрителям открыто демонстрируется все безразличие героя к моделям. Он живет исключительно во время съемки и готов на любые ухищрения, чтобы добиться идеального снимка. После фотосессии, Томас теряет весь интерес ко всему окружающему. Модели, и женщины в принципе, для него всего-навсего живые манекены. Часть декораций его иллюзорного мира, который он сам для себя создает изо дня в день.
Первостепенная и основная задача- поймать удачный кадр. Зрителям открыто демонстрируется все безразличие героя к моделям. Он живет исключительно во время съемки и готов на любые ухищрения, чтобы добиться идеального снимка. После фотосессии, Томас теряет весь интерес ко всему окружающему. Модели, и женщины в принципе, для него всего-навсего живые манекены. Часть декораций его иллюзорного мира, который он сам для себя создает изо дня в день. Высшая форма человеческой деятельности — философия. Ну какое кино может сравниться с «Наукой логики», «Бытием и временем» или «Смыслом и назначением истории»? Кино априори искусство и форма для масс, самое демократичное и даже, я бы сказал, «плебейское» искусство. Развлечение, коммерция и пропаганда, таков удел современного кинематографа на 99%. Визуальный язык есть самый понятный и доступный. Ниже кинематографа в иерархии искусств для меня только фотография. Уж простите.
Высшая форма человеческой деятельности — философия. Ну какое кино может сравниться с «Наукой логики», «Бытием и временем» или «Смыслом и назначением истории»? Кино априори искусство и форма для масс, самое демократичное и даже, я бы сказал, «плебейское» искусство. Развлечение, коммерция и пропаганда, таков удел современного кинематографа на 99%. Визуальный язык есть самый понятный и доступный. Ниже кинематографа в иерархии искусств для меня только фотография. Уж простите.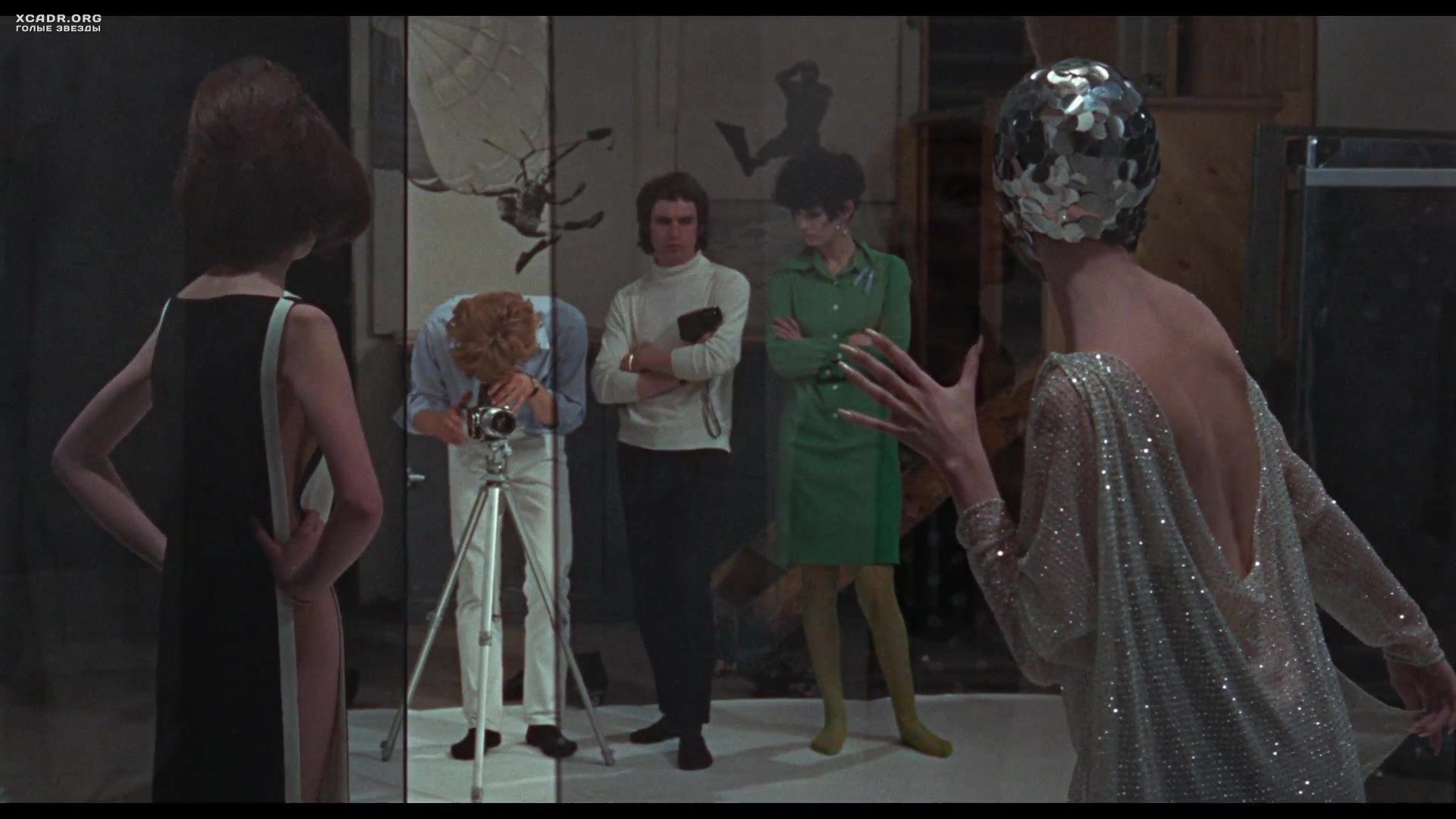 Науку, технологию, массовое производство и общество, капитализм, комфорт, гедонизм. Все ставится под сомнение простой историей преуспевающего фотографа, случайно увидевшего странные тени на своих снимках. Антониони предрек в фильме: воспевание пустоты, обессмысливание ведет и к исчезновению (уничтожению) человека. К слову, эти странные тени, невнятные очертания заставили Томаса отказаться от своего метода. Если в начале творческий и интеллектуальный поиск у него были инструментом, то после обнаружения признаков преступления на своих фото, он словно преображается. Результат уходит в тень, поиск завладевает героем. Говоря философским языком, фотограф вдруг столкнулся с истинным бытием. Бесконечным, неуловимым, живым, но безусловно существующим. Видимость разоблачена, но есть ли за ней что-либо?
Науку, технологию, массовое производство и общество, капитализм, комфорт, гедонизм. Все ставится под сомнение простой историей преуспевающего фотографа, случайно увидевшего странные тени на своих снимках. Антониони предрек в фильме: воспевание пустоты, обессмысливание ведет и к исчезновению (уничтожению) человека. К слову, эти странные тени, невнятные очертания заставили Томаса отказаться от своего метода. Если в начале творческий и интеллектуальный поиск у него были инструментом, то после обнаружения признаков преступления на своих фото, он словно преображается. Результат уходит в тень, поиск завладевает героем. Говоря философским языком, фотограф вдруг столкнулся с истинным бытием. Бесконечным, неуловимым, живым, но безусловно существующим. Видимость разоблачена, но есть ли за ней что-либо?