межкультурное сотрудничество в исследованиях и кинопроизводстве (пер. С англ. Е. В. Ван Гервен) – тема научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Сибирские исторические исследования. 2017. № 3
УДК 316.7
DOI: 10.17223/23Ш6Ш17/4
«ВКЛЮЧЕННОЕ» ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ КИНО:
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ИССЛЕДОВАНИЯХ И КИНОПРОИЗВОДСТВЕ
Мартин Грубер
Аннотация. Рассматривается метод создания включенного этнографического кино (Participatory Ethnographic Filmmaking), разработанный автором в ходе полевых исследований в Намибии, Ботсване и Анголе. Метод предполагает коллективное со-творчество с людьми, не имевшими ранее опыта съемки, в ходе специальных обучающих семинаров. Участники семинаров конструируют форму и содержание фильма, а также способствуют их практическому воплощению. В статье показано, как можно создавать подобные фильмы в самых разных условиях. Производство включенного этнографического кино дает участникам этого процесса возможность сформировать собственный имидж в СМИ и генерирует новые формы коллективного знания.
Участники семинаров конструируют форму и содержание фильма, а также способствуют их практическому воплощению. В статье показано, как можно создавать подобные фильмы в самых разных условиях. Производство включенного этнографического кино дает участникам этого процесса возможность сформировать собственный имидж в СМИ и генерирует новые формы коллективного знания.
Ключевые слова: визуальная антропология, этнографический фильм, включенное кино, совместное кинопроизводство, совместные исследования, аудиовизуальная этнография, коллективное знание
Введение
Элементы коллективного участия стали модными в кино, в исследованиях и проектах развития во всем мире. Сегодня практически невозможно реализовать какой-либо крупный проект, не вовлекая в него тех, кто, как считается, в наибольшей степени подвергается его воздействию. Смысл заключается в том, чтобы участники исследования, которые нередко маргинализируются, могли влиять на решения, затрагивающие их жизнь. В антропологии, с возникновением полемики по вопросам власти репрезентации, сотрудничество с объектами исследования представляется этнографам не только эффективным способом снимать фильмы о людях, которых они изучают, но и, возможно, способом сделать эти фильмы лучше. Включенное кинопроизводство (participatory filmmaking) также стало важной составляющей в таких сферах, как сотрудничество в области развития, градостроительство, работа с молодежью и научные исследования. Однако, по большому счету, в то время как положительные эффекты «соучастия» или «сотрудничества» считаются само собой разумеющимися, практическая работа и лежащие в ее основе намерения и методы, так же, как и результаты, часто остаются неясными. В данной статье я рассматриваю
В антропологии, с возникновением полемики по вопросам власти репрезентации, сотрудничество с объектами исследования представляется этнографам не только эффективным способом снимать фильмы о людях, которых они изучают, но и, возможно, способом сделать эти фильмы лучше. Включенное кинопроизводство (participatory filmmaking) также стало важной составляющей в таких сферах, как сотрудничество в области развития, градостроительство, работа с молодежью и научные исследования. Однако, по большому счету, в то время как положительные эффекты «соучастия» или «сотрудничества» считаются само собой разумеющимися, практическая работа и лежащие в ее основе намерения и методы, так же, как и результаты, часто остаются неясными. В данной статье я рассматриваю
метод включенного этнографического кино (Participatory Ethnographic Filmmaking), который я разработал в процессе создания фильмов в сотрудничестве с пользователями природных ресурсов в бассейне реки Окаванго в Намибии, Ботсване и Анголе. Создание кино объединило мой антропологический взгляд с многочисленными местными представлениями в совместном процессе генерации знаний. В начале статьи я дам обзор контекста, в котором был разработан кинематографический подход, а затем рассмотрю три параллельные области, которые способствовали его формированию, а именно антропологическое кино, инди-генные медиа и включенное видео (ВВ). Далее, в относительно хронологическом порядке, будет рассказано о процессе съемки трех фильмов в Намибии, Ботсване и Анголе. В конце статьи будет дана оценка данного метода и его эпистемологических возможностей.
Создание кино объединило мой антропологический взгляд с многочисленными местными представлениями в совместном процессе генерации знаний. В начале статьи я дам обзор контекста, в котором был разработан кинематографический подход, а затем рассмотрю три параллельные области, которые способствовали его формированию, а именно антропологическое кино, инди-генные медиа и включенное видео (ВВ). Далее, в относительно хронологическом порядке, будет рассказано о процессе съемки трех фильмов в Намибии, Ботсване и Анголе. В конце статьи будет дана оценка данного метода и его эпистемологических возможностей.
Предыстория
Я начал экспериментировать с элементами включенного кино еще во время работы над фильмом «Виза-Вету — наш лес» («Wiza Wetu -Our Forest») в 2007 г. Нацеленный на местную аудиторию, этот фильм пропагандировал рациональное природопользование в регионе Каванго в Северной Намибии (Propper & Gruber 2007). В соответствии со своим опытом в области визуальной антропологии мы со вторым режиссером, Майклом Проппером (Michael Propper), сделали этот фильм в жанре наблюденческого кино (observational filmmaking), сочетая реконструкции и интервью. Мы подключили к работе двух намибийских ассистентов, полагая, что их вклад придаст фильму большую значимость в глазах местного населения. Более того, в течение всего процесса съемок мы тесно сотрудничали с представителями местного сообщества. Два года спустя мы, вместе с моим руководителем Уте Шмиделем (Ute Schmiedel), провели семинар по созданию кино, основанный на идеях и методах, зародившихся в ходе включенных съемок (Braden 1998; Lunch & Lunch 2006). Семинар был организован в рамках международного обучающего проекта для научных сотрудников из Южной Африки и Намибии. В итоге появился фильм «Навести мосты» («Bridging the Gap»), полностью придуманный и снятый участниками семинара и рассказывающий о каждом дне работы над проектом (Schmiedel et al. 2009).
В соответствии со своим опытом в области визуальной антропологии мы со вторым режиссером, Майклом Проппером (Michael Propper), сделали этот фильм в жанре наблюденческого кино (observational filmmaking), сочетая реконструкции и интервью. Мы подключили к работе двух намибийских ассистентов, полагая, что их вклад придаст фильму большую значимость в глазах местного населения. Более того, в течение всего процесса съемок мы тесно сотрудничали с представителями местного сообщества. Два года спустя мы, вместе с моим руководителем Уте Шмиделем (Ute Schmiedel), провели семинар по созданию кино, основанный на идеях и методах, зародившихся в ходе включенных съемок (Braden 1998; Lunch & Lunch 2006). Семинар был организован в рамках международного обучающего проекта для научных сотрудников из Южной Африки и Намибии. В итоге появился фильм «Навести мосты» («Bridging the Gap»), полностью придуманный и снятый участниками семинара и рассказывающий о каждом дне работы над проектом (Schmiedel et al. 2009).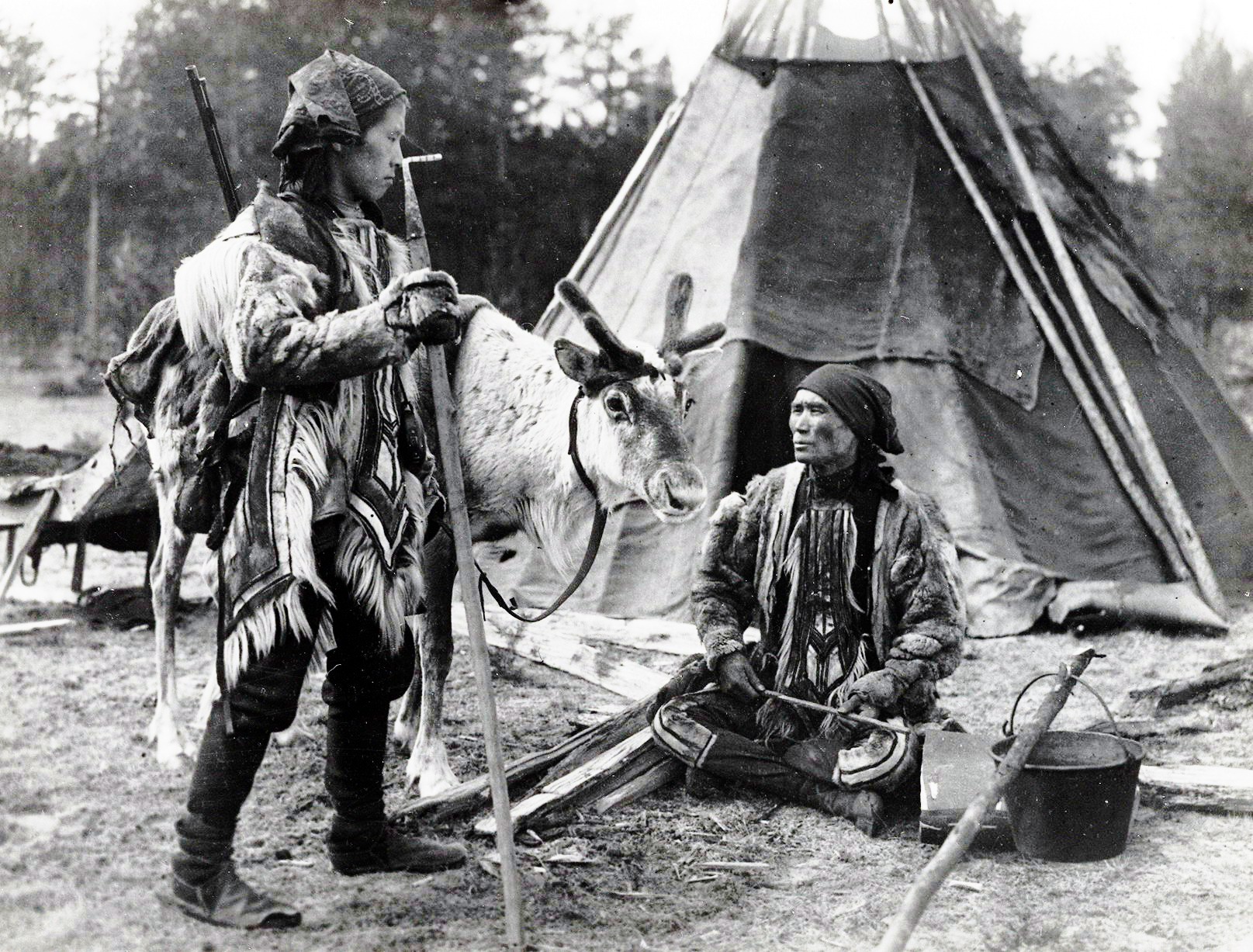
По всей видимости, сочетание методов этнографического кино и включенного видео, оказалось полезным. Во-первых, получившиеся фильмы пользовались чрезвычайной популярностью среди местных жителей, так как были основаны на их родном языке, представлениях и нарративах. Во-вторых, они привлекли внимание широкой аудитории и в других странах, не только в тех, о которых они были сняты, став тем самым некой формой межкультурного посредничества (Ginsburg 1995).
В-третьих, участие в проекте «местных заинтересованных сторон» отвечало требованиям спонсоров международных исследований и проектов по развитию.
Я усовершенствовал этот подход во время работы над своей докторской диссертацией в рамках международного исследовательского проекта по изучению рационального природопользования и изменения климата в Анголе, Намибии и Ботсване (Gruber 2015). Более ста ученых в области социологии и естествознания, взяв за основу междисциплинарный подход, трудились над исследовательским проектом «Будущее Окаванго»1. Направленный на изучение сложных и взаимосвязанных проблем окружающей среды проект намеревался выйти за дисциплинарные рамки и совершенствовать ключевые методы и перспективы деятельности. Междисциплинарное исследование по определению является коллективной работой и подразумевает сотрудничество не только с другими исследователями, но, что еще более важно, с внешними заинтересованными лицами (Wickson et al. 2006; Russell et al. 2008).
Более ста ученых в области социологии и естествознания, взяв за основу междисциплинарный подход, трудились над исследовательским проектом «Будущее Окаванго»1. Направленный на изучение сложных и взаимосвязанных проблем окружающей среды проект намеревался выйти за дисциплинарные рамки и совершенствовать ключевые методы и перспективы деятельности. Междисциплинарное исследование по определению является коллективной работой и подразумевает сотрудничество не только с другими исследователями, но, что еще более важно, с внешними заинтересованными лицами (Wickson et al. 2006; Russell et al. 2008).
Таким образом, основной целью создания моих фильмов было вовлечение в процесс местных участников с использованием их знаний в работе над проектом, благодаря чему в будущем их интересы могли бы быть приняты во внимание. Еще одной задачей было повысить уровень информированности и донести опасения людей до более широкой аудитории как в соответствующих странах, так и за их пределами.
Методологическая база
Методологическую базу исследования составили три пересекающиеся области: этнографическое кино, индигенные медиа и включенное видео. Далее я рассмотрю данные аспекты в отношении своей собственной практики.
Включенное наблюдение стало основным методом работы антропологии еще со времен вынужденного пребывания Бронислава Малиновского на Тробрианских островах во время Первой мировой войны. Исследователь принимает участие в ежедневной жизни своих «информантов», обычно в ходе тесных взаимодействий с ними во время длительной полевой работы. Такой концепт соучастия воспринимается и как важная составляющая этнографической съемки, основанной на наблюдении и предназначенной представить полевой опыт (MacDougall 1995; Grimshaw 2001; Henley 2004). В то же время более активное вовлечение участников исследования в процесс создания фильма также имеет богатую традицию в истории этнографического кино, и можно с уверенностью говорить о подобном участии как об отличительной или даже основополагающей характеристике данного жанра (Durington 2009: 197). Обе эти концепции участия — участие автора фильма в жизни сво-
Обе эти концепции участия — участие автора фильма в жизни сво-
их героев и участие героя в создании фильма — можно проследить на протяжении всей истории антропологического кино.
Фильм Роберта Дж. Флаэрти (Robert J. Flaherty) (1922) «Нанук с Севера» («Nanook of the North»), снятый в 1920-1921 гг., был основан на «интенсивном и длительном взаимодействии с людьми и ландшафтом, в котором они жили», что было «сродни этнографической полевой работе» (Grimshaw 2001:48). Однако, вдохновленный собственным восхищением людьми, живущими в тяжелых условиях, Флаэрти был заинтересован не столько в изображении реальности начала 1920-х гг., сколько в представлении романтической и идеалистической версии жизни своих героев до контакта с Западом. Поэтому фильм содержит много постановок и реконструкций, к примеру «традиционного» быта. Несмотря на то что такой подход позднее был подвержен критике как искажающий реальность и назван «антропологией спасения», он требовал активного и творческого вовлечения героев в процесс. Джей Руби (Jay Ruby) (2000: 8-91) цитирует обширные пассажи из записей Флаэр-ти, чтобы продемонстрировать, как эти реконструкции зарождались при содействии самих героев, а не только под его руководством. Для воссоздания подобных сцен активное участие героев фильма являлось одновременно и обязательным условием, и следствием.
Джей Руби (Jay Ruby) (2000: 8-91) цитирует обширные пассажи из записей Флаэр-ти, чтобы продемонстрировать, как эти реконструкции зарождались при содействии самих героев, а не только под его руководством. Для воссоздания подобных сцен активное участие героев фильма являлось одновременно и обязательным условием, и следствием.
Жан Руш (lean Rouch), французский режиссер и антрополог, развил идеи Флаэрти и фактически вовлек своих героев в процесс создания кино. Руш не верил ни в объективную научную правду, ни в кинокамеру как пассивное записывающее устройство. Для него присутствие кинокамеры создавало ситуации, которые он хотел задокументировать как кинематографическую правду — «синема верите» (cinéma vérité). Он придерживался принципов «антропологии дара», основанных на взаимном обмене со своими героями (Rouch 2003: 43; Henley 2009: 310). Частью этих обоюдных отношений был регулярный совместный просмотр текущего съемочного материала и предварительный монтаж, чтобы обсудить отснятое и продумать предстоящую съемку. Более того, Руш возвращался, чтобы показать законченный фильм и обсудить его с местным сообществом.
Более того, Руш возвращался, чтобы показать законченный фильм и обсудить его с местным сообществом.
Таким образом, Жан Руш предложил более радикальную перемену в политике репрезентации посредством «камеры, которая может полностью перейти в руки тех, кто до настоящего момента всегда находился перед объективом. И тогда антропологи больше не будут контролировать исключительное право на наблюдение; их культуру и их самих будут наблюдать и записывать» (Rouch 2003: 43).
Несмотря на эти футуристические взгляды и новаторский рефлексивный подход, Жан Руш всегда жестко контролировал процесс создания фильма и никогда в буквальном смысле слова не передавал свою камеру в руки своих героев. Позднее он подтвердил эту позицию, отри-
цая видеотехнологии с их «демократизирующими эффектами», как он выразился в моем интервью с ним в 2001 г. (Gruber 2006)2. Однако я хочу обратить внимание на другой ключевой момент работы Руша, который особенно важен для создания моего собственного кино, а именно взаимодействие с героями в течение съемки, описанное им таким образом: «Создатель фильма фабрикует эту реальность как режиссер, импровизируя сцены, свои движения или время съемки, субъективный выбор, единственный ключ к которому — личное вдохновение. И, без сомнения, шедевр получается, когда вдохновение наблюдателя звучит в унисон с вдохновением сообщества, за которым он наблюдает…» (Rouch 2003: 185).
Однако я хочу обратить внимание на другой ключевой момент работы Руша, который особенно важен для создания моего собственного кино, а именно взаимодействие с героями в течение съемки, описанное им таким образом: «Создатель фильма фабрикует эту реальность как режиссер, импровизируя сцены, свои движения или время съемки, субъективный выбор, единственный ключ к которому — личное вдохновение. И, без сомнения, шедевр получается, когда вдохновение наблюдателя звучит в унисон с вдохновением сообщества, за которым он наблюдает…» (Rouch 2003: 185).
Визуальный антрополог Пол Хэнли Paul Henley) подчеркивает, что «наличие факторов риска и случая, которые потребовались бы создателю фильма, чтобы сымпровизировать вдохновенный отклик», было центральным элементом режиссуры Руша (Henley 2009: 255). Эта «вдохновенная игра» (Henley 2009), безусловно, была самым интересным и инновационным в ранних этнофикшн фильмах Руша3. Во время своих антропологических полевых исследований трудовой миграции в Западной Африке Рушу казалось «невозможным передать способами традиционного документального кино все, через что проходили мигранты» (Henley 2009: 73). Поэтому он попросил своих героев сыграть значимые ситуации из их повседневной жизни, в итоге в 1967 г. на свет появились два полнометражных фильма: «Ягуар» (снятый в 19541955 гг.) и «Я — Негр» (1959). Включая в себя элементы как игрового, так и документального кино, эти фильмы сочетают «тщательно исследованную и проанализированную этнографию» с художественной формой (Stoller 1992: 143). Руш снимал свои этнофикшн фильмы, в основном следуя принципам документального кино, «без сценария и с минимальной режиссурой, в первую очередь полагаясь на то, что герои сами зададут направление развития сюжета» (Henley 2009: 259; Sjöberg 2009: 236). После согласования с героями содержания определенных сцен Руш снимал их без режиссуры и какого-либо дальнейшего вмешательства. Как правило, они снимали сцены, следуя за сюжетной линией, и старались снимать только по одному действию в одном ракурсе за раз (Jorgensen 2007: 63). Такой стиль документации давал свободу интуиции, игре, шансу и риску, что, по мнению Руша, было чрезвычайно важно.
Поэтому он попросил своих героев сыграть значимые ситуации из их повседневной жизни, в итоге в 1967 г. на свет появились два полнометражных фильма: «Ягуар» (снятый в 19541955 гг.) и «Я — Негр» (1959). Включая в себя элементы как игрового, так и документального кино, эти фильмы сочетают «тщательно исследованную и проанализированную этнографию» с художественной формой (Stoller 1992: 143). Руш снимал свои этнофикшн фильмы, в основном следуя принципам документального кино, «без сценария и с минимальной режиссурой, в первую очередь полагаясь на то, что герои сами зададут направление развития сюжета» (Henley 2009: 259; Sjöberg 2009: 236). После согласования с героями содержания определенных сцен Руш снимал их без режиссуры и какого-либо дальнейшего вмешательства. Как правило, они снимали сцены, следуя за сюжетной линией, и старались снимать только по одному действию в одном ракурсе за раз (Jorgensen 2007: 63). Такой стиль документации давал свободу интуиции, игре, шансу и риску, что, по мнению Руша, было чрезвычайно важно.
Роль фильмов этнофикшн, как формы этнографического исследования, была тщательно проработана Йоханнесом Шёбергом Johannes Sjöberg) (Sjöberg 2008, 2009) на базе своих собственных фильмов. Отправной точкой Шёберга был принцип «проективной импровизации» Питера Лоизоса (Peter Loizos), или «использование импровизации и фантазии в рамках проективных методов» (Loizos 1993: 46). Это подра-
зумевает, что фильмы этнофикшн основываются на пережитых событиях из жизни героев, отображенных посредством импровизированной игры. Йоханнес Шёберг разделял изобразительную и выразительную функции игры (Sjoberg 2009: 6).
Экспрессивные импровизации дают героям возможность раскрыть свои чувства, мечты и фантазии. Анонимность, которую предоставляют им вымышленные персонажи, позволяет героям выразить свои эмоции, выявить тайные и сокровенные переживания, чего было бы сложно добиться иным способом. Описательные импровизации, с другой стороны, служат для демонстрации определенных видов деятельности, что может быть особенно полезным, если другие кинематографические подходы не в состоянии раскрыть сложную для отображения тему, как в случае с нелегальной и социально неприемлемой деятельностью. Однако они применяются не только из необходимости, «так как не существует другого способа это выразить… [а потому, что] этнофикшн является более удачным способом рассказать об этом с этнографической точки зрения» (Sjoberg 2009: 8; эмфаза, как в оригинале). Антропологическое знание генерируется процессом создания кино, равно как и в традиционном этнографическом кинематографе: «В отличие от современной документальной драмы, где большая часть исследований проводится перед съемкой и раскрывается в сценарии, исследования в эт-нофикшн Руша продолжались в течение съемок… Проектная импровизация, таким образом, находится в самом центре исследовательского процесса создания этнофикшн, поскольку герои, импровизируя, не только реконструируют события, но, фактически, выводят на поверхность нечто подсознательное, представляющие этнографическую ценность» (7).
Описательные импровизации, с другой стороны, служат для демонстрации определенных видов деятельности, что может быть особенно полезным, если другие кинематографические подходы не в состоянии раскрыть сложную для отображения тему, как в случае с нелегальной и социально неприемлемой деятельностью. Однако они применяются не только из необходимости, «так как не существует другого способа это выразить… [а потому, что] этнофикшн является более удачным способом рассказать об этом с этнографической точки зрения» (Sjoberg 2009: 8; эмфаза, как в оригинале). Антропологическое знание генерируется процессом создания кино, равно как и в традиционном этнографическом кинематографе: «В отличие от современной документальной драмы, где большая часть исследований проводится перед съемкой и раскрывается в сценарии, исследования в эт-нофикшн Руша продолжались в течение съемок… Проектная импровизация, таким образом, находится в самом центре исследовательского процесса создания этнофикшн, поскольку герои, импровизируя, не только реконструируют события, но, фактически, выводят на поверхность нечто подсознательное, представляющие этнографическую ценность» (7).
Вдохновленный работой Жана Руша, я применил реконструкцию и импровизированную игру при создании своих фильмов. Основанные на коллективном опыте, представлениях, мечтах и фантазиях, так же как и на местных нарративах и журналистских штампах из СМИ, они были чрезвычайно популярны у героев и местного населения. Я убежден, что использование элемента вымышленности не только произвело эффект на героев, но также изменило отношения между ними и создателями фильма: они скорее стали полноценными игроками все той же (Рушев-ской) игры, чем попали в жесткие иерархические отношения между наблюдателем и теми, за кем наблюдают, что характерно для более традиционного документального кино.
Идея «передать камеру в руки участников исследования» (Rouch 2003), «предоставление создателей кино в распоряжение объектам своего исследования» (MacDougall 1995) и другие формы «включенного кино» (Elder 1995) были чрезвычайно популярны в этнографическом кино в начале 1970-х гг. Тем не менее никто из режиссеров, по сути, не
Тем не менее никто из режиссеров, по сути, не
отказался от своего авторства и не уступил практические аспекты создания кино своим героям4. Эти противоречия исчезли несколько лет спустя, в конце 1980-х, когда представители коренного населения по всему миру стали создавать свои собственные фильмы, телевизионные программы и другие формы медиа, обычно при поддержке антропологов. В тот же период власть антропологической репрезентации и, в особенности, этнографического фильма была поставлена под сомнение и в данной области, и вне ее (Writing Culture 1986; Nichols 1991; Weinberger 1994). Дискуссии об индигенных медиа (Ginsburg 1991) и их отношении к этнографическому кино стали довольно значимыми в антропологии. В то время как одни ученые относились к индигенным медиа как к неаутентичным, считая их потенциально опасными для соответствующих местных сообществ (Weiner 1997), другие были уверены в том, что применение видеотехнологий коренным населением стало важным шагом в их борьбе за самоопределение и открыло новое поле для исследования и деятельности (Michaels 1986; Ginsburg 1991; Turner 1991; Aufderheide 1995).
Антрополог Фэй Гинзбург (Faye Ginsburg) определяет индигенные медиа скорее как исключительно работу «коренных народов, позднее колонизированных государствами… которые борются за сохранение своей идентичности, а также за право на культуру и землю, выживая, являясь внутренними колониями в окружении колонизаторов». Подобные примеры можно обнаружить в Австралии, США, Новой Зеландии, Канаде и Латинской Америке (Ginsburg et al. 2002: 25). Их усилия по заимствованию видео- и телевизионных технологий были «спровоцированы» (ее термин) такими факторами, как: растущее желание этих людей контролировать их конструируемый извне имидж, часто нежелательное внедрение кабельного телевидения и распространение относительно дешевого видеооборудования (1995: 67).
В контексте все нарастающего культурного и политического давления на коренное население Гинзбург воспринимает их деятельность в этой области как некую форму «культурного активизма» — сознательную форму «самоопределения, защиты культуры и предотвращения культурного разрушения» (Ginsburg 1995: 70).
В то время как их творчество часто создается и потребляется исключительно в пределах местных сообществ, к которым и принадлежат его создатели, оно могло бы быть сформировано и в более глобальном контексте и нацелено на более широкую, и даже международную, аудиторию.
Индигенное кино проявило себя как довольно мощная форма современной культурной объективизации. Местные медиа обнаружили возможности для разнообразного творчества в области культуры, проделав путь от небольших видео- и радиостудий до архивных веб-
сайтов, национальных телевизионных сетей и художественных фильмов (Ginsburg 2011: 238).
Фэй Гинзбург полагает, что этнографическое и индигенное кино -это дополнительные средства выражения более широкого проекта «репрезентации, посредничества и понимания культуры» (Ginsburg 1995: 65).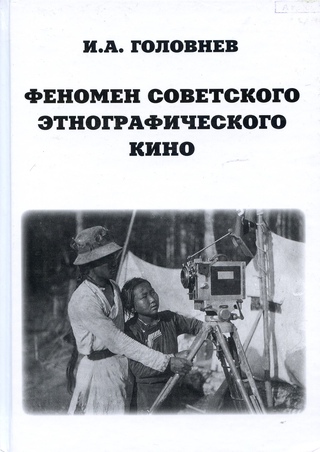 Будучи под впечатлением от «встречных взглядов» («regards compares») Жана Руша, она предлагает сопоставить работы, выполненные в различных жанрах, чтобы более широко взглянуть на культурные и социальные феномены5. Хотя, возможно, авторские фильмы изначально были нацелены на решение других задач, Гинзбург, выступая за схожесть многочисленных контрастных жанров, предлагает такой подход к этнографическому и индигенному кино, который позволяет нам включить отдельные ситуации в широкий аналитический контекст (1995: 70).
Будучи под впечатлением от «встречных взглядов» («regards compares») Жана Руша, она предлагает сопоставить работы, выполненные в различных жанрах, чтобы более широко взглянуть на культурные и социальные феномены5. Хотя, возможно, авторские фильмы изначально были нацелены на решение других задач, Гинзбург, выступая за схожесть многочисленных контрастных жанров, предлагает такой подход к этнографическому и индигенному кино, который позволяет нам включить отдельные ситуации в широкий аналитический контекст (1995: 70).
Антрополог и активист Теренс Тёрнер (Terence Turner), участвовавший во внедрении видеотехнологий среди каяпо (Kayapo) в Бразильской Амазонии, был заинтересован в социальном, политическом и культурном влиянии кино на коренное население и их отношения с доминантным обществом. Тёрнер предлагает детальное описание социальной и политической динамики, вызванной введением медиапосред-ничества в сообщество каяпо (Turner 1991, 1992). В то время как, по мнению Тёрнера, доступ к технологиям главным образом регулировался существующими органами власти, некоторые вовлеченные в процесс пытались улучшить свое положение с помощью кинопроизводства: люди, работающие кинооператорами или инженерами видеомонтажа, совмещали престижное положение в местном сообществе с возможностью посредничества с внешним миром и, таким образом, накопили символический капитал и другие ресурсы, необходимые для политического лидерства (см. также: Flores 2009: 215). Многие каяпо, работающие с Тёрнером, смогли, таким образом, получить или укрепить свое политическое влияние, в то время как другие амбициозные молодые мужчины принимали участие в создании кино ради карьерного роста (MacDougall 1987: 56; Turner 1992: 6). «Монополизация контроля» путем создания видеоматериала препятствовала усилиям Тёрнера в предоставлении равных возможностей всей общине и усиливала многочисленные социальные конфликты (Turner 1991: 73).
В то время как, по мнению Тёрнера, доступ к технологиям главным образом регулировался существующими органами власти, некоторые вовлеченные в процесс пытались улучшить свое положение с помощью кинопроизводства: люди, работающие кинооператорами или инженерами видеомонтажа, совмещали престижное положение в местном сообществе с возможностью посредничества с внешним миром и, таким образом, накопили символический капитал и другие ресурсы, необходимые для политического лидерства (см. также: Flores 2009: 215). Многие каяпо, работающие с Тёрнером, смогли, таким образом, получить или укрепить свое политическое влияние, в то время как другие амбициозные молодые мужчины принимали участие в создании кино ради карьерного роста (MacDougall 1987: 56; Turner 1992: 6). «Монополизация контроля» путем создания видеоматериала препятствовала усилиям Тёрнера в предоставлении равных возможностей всей общине и усиливала многочисленные социальные конфликты (Turner 1991: 73).
В то же время кинопроизводство сыграло важную роль в развитии отношений между каяпо и доминирующим сообществом. Во время их протеста против сооружения ГЭС «Бело Монте» (Belo Monte) рядом с городом Алтамира на реке Шингу кинооператоры каяпо стали центром внимания международных журналистов. Ради достижения широкого резонанса в СМИ они стали снимать активнее во время публичных мероприятий не только для того, чтобы задокументировать свои проте-
Во время их протеста против сооружения ГЭС «Бело Монте» (Belo Monte) рядом с городом Алтамира на реке Шингу кинооператоры каяпо стали центром внимания международных журналистов. Ради достижения широкого резонанса в СМИ они стали снимать активнее во время публичных мероприятий не только для того, чтобы задокументировать свои проте-
сты, но и для того, чтобы сделать их видимыми для публики (Turner 1992: 7). Работа Теренса Тёрнера демонстрирует, как кинопроизводство может стать инструментом политической борьбы.
Между индигенными медиа и моей работой существует несколько точек соприкосновения. Во-первых, Теренс Тёрнер напоминает нам о потенциале развития (внутреннего) конфликта с появлением посредника в виде кино в небольшом сплоченном сообществе. Важно отметить, что дискуссии вокруг доступа к такого рода проектам ни в коем случае не ограничены локальным или не-Западным контекстом, но с легкостью могут возникнуть в любой обстановке. Во-вторых, и Тёрнер, и Гинзбург делают акцент на важности фильма как формы культурного и политического активизма, который может быть мобилизован для достижения разных целей. В-третьих, в работах Гинзбурга предлагается рассматривать фильмы, которые я создаю, наряду с другой медиапродукци-ей (к примеру, с этнографическим кино) для понимания определенных культурных феноменов. Из этого вытекает, что они могут расцениваться как некая форма антропологического исследования. Однако в то время, как индигенные медиа нацелены на обеспечение локальным сообществам долгосрочного доступа к видеотехнологиям и, таким образом, предоставления им надежного инструмента для самовыражения, мои собственные проекты были слишком краткосрочными и проводились под моим непрестанным наблюдением. Такой метод производства относит их к области прикладной визуальной антропологии (Pink 2009)6.
Во-вторых, и Тёрнер, и Гинзбург делают акцент на важности фильма как формы культурного и политического активизма, который может быть мобилизован для достижения разных целей. В-третьих, в работах Гинзбурга предлагается рассматривать фильмы, которые я создаю, наряду с другой медиапродукци-ей (к примеру, с этнографическим кино) для понимания определенных культурных феноменов. Из этого вытекает, что они могут расцениваться как некая форма антропологического исследования. Однако в то время, как индигенные медиа нацелены на обеспечение локальным сообществам долгосрочного доступа к видеотехнологиям и, таким образом, предоставления им надежного инструмента для самовыражения, мои собственные проекты были слишком краткосрочными и проводились под моим непрестанным наблюдением. Такой метод производства относит их к области прикладной визуальной антропологии (Pink 2009)6.
Я включил прикладную визуальную методологию в процесс съемки фильма, что до сих пор не вызывало особого интереса у антропологов. Включенное видео — подход, призванный дать возможность представителям маргинальных групп обсуждать свои проблемы и сообщать о них посредством видео, изначально внутри собственной социальной группы, а затем и для внешней аудитории. Участники ВВ семинаров получают базовые навыки видеосъемки (а иногда и монтажа), им предлагается снять фильм на определенную коллективно согласованную тему (Braden 1998). Процесс подготовки фильма является центральным аспектом ВВ, рассматриваемым как «инструмент для облегчения взаимодействия и помощи в самовыражении» (White 2003a: 65), в то время как сами фильмы, получившиеся в итоге, часто воспринимаются как незначимые. Они, как правило, состоят из интервью или видов какой-либо деятельности, запечатленных в простом документальном стиле, но могут также включать в себя танец, драматическое представление, песни и стихи (Braden 1998: 92). Обычно ВВ используется в основном в проектах развития, но его также можно применять в ряде других контекстов, таких как академические исследования (Kindon 2003; Mistry & Berardi 2011), наращивание потенциала (Menter et al.
Включенное видео — подход, призванный дать возможность представителям маргинальных групп обсуждать свои проблемы и сообщать о них посредством видео, изначально внутри собственной социальной группы, а затем и для внешней аудитории. Участники ВВ семинаров получают базовые навыки видеосъемки (а иногда и монтажа), им предлагается снять фильм на определенную коллективно согласованную тему (Braden 1998). Процесс подготовки фильма является центральным аспектом ВВ, рассматриваемым как «инструмент для облегчения взаимодействия и помощи в самовыражении» (White 2003a: 65), в то время как сами фильмы, получившиеся в итоге, часто воспринимаются как незначимые. Они, как правило, состоят из интервью или видов какой-либо деятельности, запечатленных в простом документальном стиле, но могут также включать в себя танец, драматическое представление, песни и стихи (Braden 1998: 92). Обычно ВВ используется в основном в проектах развития, но его также можно применять в ряде других контекстов, таких как академические исследования (Kindon 2003; Mistry & Berardi 2011), наращивание потенциала (Menter et al. 2006) и молодежная работа (Wang et al. 2012). Проекты ВВ по своей природе не должны
2006) и молодежная работа (Wang et al. 2012). Проекты ВВ по своей природе не должны
следовать заданному шаблону, а скорее адаптироваться к имеющейся ситуации.
Основы ВВ были заложены в 1960-е гг., когда ученые и политики начали обсуждать участие отдельных граждан в политических процессах в рамках понятия «гражданское общество» (Verba & Nie 1972). Исключение маргинальных групп из процессов принятия решений и вопрос о том, как они могут быть включены, сыграли важную роль в этих дискуссиях (Arnstein 2007). Все это следует рассматривать в контексте более широкого социального и политического мейнстрима того времени — борьбы за расовое и гендерное равенство. Локальные медиапроек-ты, в которых фильм выступал своеобразным инструментом социальных изменений, появились в разных местах в Европе и Северной Америке (Nigg & Wade 1980)7. Эти вопросы были связаны с требованиями освободить маргинализованных людей в так называемом «третьем мире». Одной из подобных работ, которую часто называют новаторской, является работа бразильца Пауло Фрейре Paulo Freire) «Педагогика угнетенных» (Pedagogy of the Oppressed), в которой он утверждает, что развитие критического сознания дает бедным «силу» для понимания своего положения и принятия мер против бедности и угнетения (Freire 1977). Эта «сила» рассматривалась как форма радикальной социальной трансформации посредством индивидуальных и классовых действий, что привело к изменениям в законодательстве, правах на собственность и других сторонах жизни общества (Cleaver 1999: 599).
Одной из подобных работ, которую часто называют новаторской, является работа бразильца Пауло Фрейре Paulo Freire) «Педагогика угнетенных» (Pedagogy of the Oppressed), в которой он утверждает, что развитие критического сознания дает бедным «силу» для понимания своего положения и принятия мер против бедности и угнетения (Freire 1977). Эта «сила» рассматривалась как форма радикальной социальной трансформации посредством индивидуальных и классовых действий, что привело к изменениям в законодательстве, правах на собственность и других сторонах жизни общества (Cleaver 1999: 599).
С конца 1970-х гг. эти идеи получали все большее признание среди ученых и практиков в области развития: малоимущие люди из сельской местности, которые обычно были «бенефициарами» проектов в области развития, должны иметь возможность влиять на «силы, контролирующие их жизнедеятельность» (Oakley 1991). Из-за очевидных недостатков подходов, основанных на донорах и развитии под руководством сторонних лиц, специалисты по вопросам развития и доноры все чаще начали применять методы участия, принимая во внимание цели местного населения, их приоритеты, знания и навыки планирования и выполнения их программ (Cooke & Kothari 2004). Начиная с 1980-х гг. понятие «соучастие» стало доминировать в дискурсе и практиках настолько, что превратилось в «новую ортодоксию» (Henkel & Stirrat 2004).
Сегодня, с политической точки зрения, практически невозможно реализовать какой-либо существенный проект в области исследований, разработок или планирования, который не включает элементы «вовлечения заинтересованных сторон». Вместе с тем с 1990-х гг. включенные подходы все больше подвергаются критике. Основной аргумент заключается в том, что местные знания — это не легкодоступный для аборигенов товар, как это часто представляется в научных дискуссиях, они скорее «производятся культурно, социально и политически, и… по-
стоянно переформулируются будучи мощной нормативной конструкцией» (Kothari 2004: 141).
Географ Ума Котари (2004: 144f) подчеркивает трудность раскрытия базовых отношений власти, так как они принимаются такими как есть и воспроизводятся в процессе самостоятельного наблюдения и нормализации (Foucault 1995).
Дэвид Мосс (David Mosse) отмечает, что «включение» само по себе характеризуется контролем и доминированием: «Сотрудники проекта «владеют» инструментами исследования, выбирают темы, записывают информацию, резюмируют и подводят итоги в соответствии с проектными критериями релевантности» (Mosse 2004: 19). Далее он утверждает, что приоритеты и потребности участников обычно формируются исходя из их понимания того, что проект, в котором они задействованы, способен им предложить (23).
Таким образом, включенные процессы могут легитимировать и претворить в жизнь решения, уже принятые агентствами по развитию или донорами. Этот аргумент поддерживается Умой Котари (2004: 148). Опираясь на мнение Эрвинга Гоффмана (Erving Goffman) (2010), она сравнивает включенные процессы с театральной постановкой: «Практик реализации программ развития… просит участников взять на себя и сыграть определенную роль, используя определенные методы и инструменты, таким образом формируя и, в некоторых случаях, ограничивая способ, с помощью которого исполнители, возможно, желали бы изобразить себя. Сцена и реквизиты для постановки могут быть чуждыми исполнителям. Предоставленные инструменты могут поставить определенные рамки, в связи с чем исполнители не в состоянии передать то, что они хотят; сцена установлена другими, они же руководят спектаклем» (Kothari 2004: 149).
Котари утверждает, что участники должны быть «хорошими актерами» и что образ тех людей, которые либо не обладают необходимыми навыками, либо не желают выступать в этих заранее определенных рамках, будет либо искажен, либо не представлен вообще. В то же время, опираясь на работу Мишеля Фуко (2010) и Энтони Гидденса (Anthony Giddens) (1984) по структуре и организации, Котари признает, что у участников «может быть достаточно власти, чтобы проложить область контроля» (2004: 150), и вообще люди способны «формировать свое собственное существование» в качестве активных деятелей (151).
Эти идеи были разработаны географом Майком Кесби (Mike Kesby) (2005), который утверждает, что деятельность, саморефлексия и «расширение прав и возможностей» не являются атрибутами отдельных лиц, а должны поддерживаться на уровне дискурса и практики. Он утверждает, что включенные семинары могут представлять собой временные социальные арены, на которых можно практиковать и прово-
дить дискурсы и деятельность, приводящие к тому, что он называет «уполномоченным агентством»: «В ходе этих семинаров стандартные рамки привилегий сочетаются с практикой и дискурсами на тему справедливости, свободы слова и сотрудничества. Участники… могут… формировать себя как рефлексивных деятелей и создавать / представлять свои мнения и опыт для себя, друг друга и посредников. Внутри этого пространства открываются возможности для людей, во-первых, распутать сложную сеть повседневной жизни… во-вторых, деконструи-ровать нормы и конвенции; в-третьих, отразить перформативность повседневной жизни; и, наконец, отрепетировать выступления для альтернативной реальности» (Kesby 2005: 2055).
Таким образом, предположения о прямой причинно-следственной связи между включением, «расширением прав и возможностей» и устойчивым развитием выглядят устаревшими в свете критики основополагающей концепции участия и развития (Ferguson 2007). Тем не менее вышеупомянутая дискуссия предполагает, что мероприятия и обсуждения, проводимые в рамках семинаров по включенному кино, могут быть значимыми и полезными для участников в различных (хотя и ограниченных) ситуациях. Будучи снятым критически и с тщательно определенной целью ВВ предлагает широкое поле возможностей как для академических, так и для прикладных исследований. Таким образом, для создания своего включенного кино я позаимствовал и применил некоторые методы из ВВ.
Включенное этнографическое кино: контекст
В период с 2011 по 2013 г. я сделал три фильма для исследовательского проекта «The Future Okavango» (TFO) («Будущее Окаванго») в деревнях, расположенных в бассейне реки Окаванго. Они были задуманы и сняты жителями деревни во время киносеминаров, которые я организовал совместно с местными участниками проекта. Фильмы длительностью от 32 до 39 минут включают сцены наблюдения, реконструкции и интервью.
Все три фильма связаны с различными аспектами рационального использования природных ресурсов. Первый фильм, «Липару-лиету -наша жизнь» (Liparu Lyetu — Our Life) (Gruber et al. 2011), был снят в Машаре (Северная Намибия) в 2011 г. В нем рассматриваются методы и проблемы, связанные с фермерством, рыболовством и сбором дико-росов. Местом съемок второго фильма, «Тайна нашей окружающей среды» (The Secret of our Environment) (Gruber et al. 2013), стала Серон-га (Северо-Западная Ботсвана). Этот фильм 2013 г.отображает различные аспекты рационального природопользования, но особое внимание в нем уделяется взаимосвязи между дикой природой и туризмом. Тре-
тий фильм «Мёд» («Honey») (Antonia et al. 2013) был снят в районе Куссек (Cusseque) в Центральной Анголе в 2014 г., он знакомит зрителя с местными практиками пчеловодства и использования меда.
Условием моей заявки на грант было создание фильмов совместно с «местными заинтересованными сторонами». В то время как проект TFO включал в круг лиц, охваченных понятием «заинтересованные стороны», местные администрации, неправительственные организации и государственные учреждения, я решил, что самым непосредственным образом, если не сказать больше, результаты проекта затронут местных сельских жителей. Поэтому я решил делать свои фильмы исключительно с ними. Учитывая мой предыдущий опыт, я полагал, что процесс обсуждения, необходимый для создания фильма совместно с группой людей, окажется плодотворным и в конечном итоге получится продукт, с высокой степенью идентифицируемый с целевой аудиторией.
Таким образом, я решил снять по одному фильму в каждой стране с группой жителей из соответствующего места исследования. Как и в большинстве моих предыдущих проектов, моей основной целевой аудиторией должны были стать сообщества, в которых эти фильмы будут создаваться. Описанные условия сформировали рамки моего фильма, а все остальное было решено вместе с моими местными коллегами и участниками киносеминаров, которых я набирал в каждой стране. Далее я сосредоточусь на различных этапах создания включенного этнографического кино, затрагивая определенные темы, которые кажутся мне наиболее значимыми.
Местные участники
В каждой из трех стран я тесно сотрудничал с местными участниками проекта, которых нанимали и обучали для работы в качестве переводчиков и помощников научных сотрудников. Я нуждался в их переводах и знаниях собственной культуры, однако превратил эту необходимость в основной элемент своей работы. Я как можно чаще позволял им контролировать процесс: мы задумывали, организовывали и проводили каждый из семинаров вместе, но время от времени я старался отойти в сторону и позволить им сделать все самостоятельно. Однако занимаемая ими позиция внутри сообщества и то, каким образом каждый из них интерпретировал свою роль, значительно изменяли динамику процесса и сами результаты семинаров.
На первый семинар в Намибии из провинциальной столицы Рунду, расположенной примерно в 40 км от фактического места исследования, прибыли два моих сотрудника — Рафаэль Синкумба (Raphael Sinkumba) и Роберт Мукуя (Robert Mukuya). Они работали со мной над предыдущими фильмами и приобрели большой опыт в области создания кино.
В некотором смысле они тоже были аутсайдерами, и, откровенно говоря, я был им намного ближе, чем другие участники семинара. Они занимали позицию посредников между мной и жителями деревни, с которыми их объединяли язык и этническое происхождение. Во время съемок мы вместе управляли процессом и старались как можно меньше влиять на групповые решения.
Фото 1. Со-ведущий Рафаэль Синкумба в Машаре, Намибия
В Ботсване ситуация была иной. С моим коллегой Мешаком Квамо-во (Meshack Kwamovo) я встретился впервые. Он был уроженцем города Серонга, где проходил мастер-класс, и имел тесные личные и родственные связи с другими участниками. Не имея опыта в этой области, он очень хотел научиться снимать фильмы, воспринимая это как получение профессиональной квалификации, которая может оказаться полезной для его будущей карьеры. Мешак, таким образом, участвовал во всех съемках и за, и перед камерой и стал движущей силой процесса. Он был и модератором, и участником одновременно, что, я считаю, сделало фильм более живым и одновременно сумбурным. Во время третьего фильма ситуация снова поменялась. Мой соведущий Мигель Хиларио (Miguel Hilario) не был родом из деревень, в которых мы работали, и не говорил на местном языке чокве (Chokwe). Нам пришлось общаться с участниками семинара, которые воспринимали Мигеля как
аутсайдера, на франко-португальском (linguae francae) и умбунду (Umbundu). Всесторонние дискуссии на разные темы, являвшиеся ядром двух предыдущих фильмов, стали невозможны. Чтобы справиться с этой ситуацией, мы приняли на себя классическую роль антропологов, пытаясь понять, что происходит вокруг нас, наблюдая и участвуя в деятельности. В результате фильм получился более исследовательским, чем другие, и, возможно, самым визуальным. Эти примеры демонстрируют, что совместная работа с местными коллегами является важным аспектом моего подхода. Их влияние на динамику внутри группы и результаты всего проекта могут быть различными в зависимости от их личности и позиции по отношению к участникам семинара.
Создание кино как социальный ресурс
Вместе с моими коллегами я набирал от четырех до семи участников на каждый фильм. Мы были нацелены демократизировать процесс отбора для создания команды со сбалансированным составом из участников разного пола, возраста, социального происхождения и представителями разных мест в каждом регионе исследования (который часто состоял из нескольких деревень). Однако, безусловно, процесс набора усложнило то, что мы решили предложить денежную компенсацию участникам семинара — особенно в сельской Намибии и Анголе, где важную роль в социальной и политической жизни продолжают играть так называемые «традиционные лидеры». В Намибии участники были отобраны со всеобщего согласия во время общедеревенских собраний. Однако руководил этими собраниями какой-нибудь авторитетный человек (женщина или мужчина) — влиятельный политический лидер, назначенный администрацией Южной Африки (D’Engelbronner-Kolff 2001).
В Анголе Собас (Sobas) назначал участников семинара более или менее открыто. Наша идея привлечь их во время деревенских собраний преуспела только в Ботсване, где существовали сопоставимые выборные практики, например, на временные работы, предлагаемые правительством или НПО, и где политические процессы, казалось, были более прозрачными. В то время как представители местных администраций пытались манипулировать членами своих семьей и друзьями внутри наших проектов в Намибии и Анголе, мы столкнулись с обидами и слухами в Машаре (Намибия). Закончилось все тем, что один человек, который, по-видимому, чувствовал себя исключенным, тайно подговорил людей не присутствовать на нашем финальном показе в деревне и лично дискредитировал одного из участников. Производство кино определенно оказалось конкурентным ресурсом с конфликтным потенциалом, что Теренс Тёрнер предвидел в индигенных медиа (Turner 1991, 1992).
Таким образом, материальные аспекты, такие как питание, предоставляемое во время семинара, и финансовая компенсация, выплаченная участникам по завершении фильмов, безусловно, сыграли свою роль. Однако, в отличие от мнения антрополога Питера Антона Зуттля (Peter Anton Zoettl), считающего, что участники научно-исследовательских проектов «редко видят в работе антропологов и общественных активистов какую-либо прямую выгоду (для себя)» и в основном участвуют из-за «сопутствующей денежной составляющей научного исследования или гуманитарной деятельности» (Zoettl 2012: 5), мой опыт позволяет предложить гораздо более широкое понимание кинопроизводства как формы социального, культурного и политического капитала. В то время как сами участники представляли свою проектную деятельность как интересный персональный опыт и получение важной профессиональной подготовки, я уверен, что они были также заинтересованы в усилении собственной позиции в их сообществе (см.: Turner 1992).
Я полагаю, что некоторые из заинтересованных сторон любого проекта по включенному кино будут пытаться влиять на процесс отбора в соответствии с их целями, независимо от географических или культурных условий. Пока кинопроизводство дает преимущества — финансовые, политические, личностные или любые другие — возможным участникам, существует опасность возникновения конфликтов. Чтобы минимизировать этот нежелательный побочный эффект, следует применять более публичные и прозрачные процедуры отбора. Это наложило бы большую ответственность на сильных акторов, включая исследователей. Разнообразие состава съемочной группы может быть достигнуто путем применения более жесткой матрицы критериев, таких как возраст, пол и, среди прочих, социальный статус.
Обучение киносъемке и пространство семинара
Каждый семинар мы начинали с ознакомления его участников с техникой и звукозаписью, а также с различных упражнений с камерой. В преподавании я основывался на принципах наблюденческого подхода и таких методах, как взаимное обучение в парах, а также тех, которые я использовал в курсе по этнографическому кино для студентов университета в Германии. Одновременно мы с коллегами модерирова-ли процесс генерации основной идеи фильма. Мы начали издалека, спросив участников семинара о том, что они хотели бы снять в рамках более обширной темы окружающей среды8. Поскольку жизнь большинства сельских жителей в значительной степени зависела от природных ресурсов, они единодушно решили сделать это центральной темой своих фильмов. Затем участники семинара выбрали различные виды дея-
тельности для изображения в фильмах, наметили героев фильмов и интервьюируемых, разработали анкеты и графики съемок. Все это происходило в течение двух-трех недель до фактической съемки. Работа с камерой и техника съемки обычно рассматриваются как самый важный аспект обучения. Однако участники расширили сферу своих интересов и приобрели разные навыки, такие как актерское мастерство, проведение интервью, сочинение и исполнение песен. Для некоторых групп было важно, чтобы разные задачи в процессе создания фильма распределялись одинаково, в других — каждый участник выбирал для себя предпочтительную роль. Хотя мы использовали примерно одинаковый подход в каждой стране, результаты поразительно различаются в зависимости от намерений участников семинара и моих коллег, а также того, как по-разному мы обсуждали этот процесс в течение каждого семинара. Одним из важных факторов была моя растущая способность «отпустить» и поэкспериментировать в игровой форме.
Фото 2. Тренинг по работе с камерой в Кюссеке (Cusseque), Ангола
Наша цель заключалась в модерировании процесса таким образом, чтобы каждый чувствовал себя его полноценным участником, представленным должным образом. Они отмечали, что насыщенные дискуссии и обсуждения сквозь призму возрастных и гендерных различий, а также социального и культурного происхождения были для них уникальным опытом, подтверждая тем самым концепцию Кесби (К^Ьу),
что включенные семинары — это «действо, дающее полномочия» (2005 г.). Кесби считает, что для закрепления подобного эффекта соответствующие дискурсы и практики должны включаться в повседневную жизнь, например путем создания долгосрочных и самоподдерживающихся социальных групп. Я хочу возразить: даже ограниченное по времени взаимодействие положительно влияет на ситуацию, в которой находятся участники, и их личностный рост. Далее я хочу проанализировать съемку как центральный элемент включенного кино.
Коллективная съемка
Как было отмечено ранее, участники семинара отнеслись к съемке как к наиболее важной задаче и быстро усвоили технические навыки. Следовательно, обсуждаемые здесь фильмы были почти полностью сняты сельскими жителями без предшествующего опыта съемок. Операторская техника существенно варьировалась как в целом, так и в конкретных случаях. С одной стороны, все они использовали камеру по-разному и развивали собственный стиль съемки. С другой, что еще более важно, участники семинара, мои местные коллеги и я, интерпретировали и договаривались о наших ролях по-другому в каждом из фильмов. Чтобы дать представление о различных формах сотрудничества, расскажу коротко на примере фильмов.
Первый фильм «Виза-Вету — Наша Жизнь», сделанный в Намибии, дает несколько романтическое представление о связанной с природными ресурсами деятельности, воспринимаемой как «традиционная» и «местная», такой, например, как ловля рыбы, выращивание проса и сбор диких фруктов. Участники семинара попросили соседей и друзей продемонстрировать эти занятия на камеру и засняли их. За исключением начальной сцены, сама съемочная группа осталась за кадром. Таким образом, участники семинара взяли на себя роль исследователей и документалистов, в то время как мы с моими местными коллегами следовали за ними и контролировали их работу, вмешиваясь лишь минимально. Эта перемена ролей становилась наиболее очевидной, когда съемочная группа беседовала с местными политиками и чиновниками, которые были крайне раздражены, что их снимали и интервьюировали местные жители, а не внешние эксперты.
В получившемся фильме фермеры изображаются как гордые и знающие эксперты в своей среде, в то время как представители местной элиты кажутся разобщенными и неуместными. По тому, каким образом участники семинара включили в фильм различные интервью, ревальвирующие их значимость, такое сопоставление может быть прочитано как критический анализ существующих соотношений сил.
Фильм «Секрет нашей окружающей среды», выпущенный в Ботсване в 2012 г., более откровенно политический. Хотя вначале фильм
знакомит с «традиционным» природопользованием, например с рыбным промыслом и сбором диких фруктов, основное внимание в нем сосредоточено на социальной сфере, находящейся во власти дикой природы, туризма и сельского хозяйства. Дикая природа и окружающая среда являются общинными ресурсами в Ботсване, однако международные игроки туристической индустрии забирают себе самую высокую долю дохода от них, организуя туризм в Серонге. Некоторые сельские жители получают небольшую заработную плату, работая в качестве экскурсоводов или обслуживающего персонала в одной из ближайших гостиниц, но большинство их являются фермерами, ведущими натуральное хозяйство и регулярно сталкивающимися с проблемой уничтожения их полей слонами или другими животными. Важно, что участники семинара решили не снимать «настоящих» действующих лиц, занимающихся бизнесом, — владельцев гостиниц или туроператоров, — но реконструировать значимые ситуации и разногласия посредством импровизированной актерской игры.
Фото 3. Съемки в Серонге, Ботсвана
Большая часть фильма показывает участников семинара, занимающихся своей повседневной работой (фермерство, рыбная ловля и проведение экскурсий) однако с долей самоиронии и театральности, благодаря элементу вымышленности, так же как и в этнографическом кино. В других случаях эти идеализированные саморепрезентации обретают более серьезную тональность. Так, в одной сцене участники попросили меня (выступив в роли туриста) поднять вопрос о неравенстве в дохо-
дах. После чего этот вопрос стал предметом обсуждения в импровизированной дискуссии с участием четырех участников из Ботсваны. Постановочные сцены дополнялись рядом интервью с политиками и чиновниками по тому же вопросу о неравномерном распределении доходов от природных ресурсов. Таким образом, один и тот же предмет обсуждался в двух различных режимах — вымышленном и реалистичном. Сначала я был удивлен, что участники были настолько откровенно критичны к своим политическим лидерам, в то время как другие аспекты проблемы они предпочли представить в игровой форме. Позже я понял, что в реальной манере они взаимодействовали с посторонними людьми, в то время как для обсуждения ситуации в деревне была более предпочтительна вымышленная структура.
Во время съемки именно этого фильма, по сравнению с остальными, роли и иерархии в проекте оказались наиболее пластичными. Во-первых, мой местный сорежиссер был одновременно активным членом съемочной группы. Во-вторых, участники семинара решили устроить постановочные сцены таким образом, чтобы самим попасть в кадр. Их постоянное перемещение то за, то перед камерой размыло границы между наблюдателями и наблюдаемыми. В-третьих, как упоминалось выше, участники попросили меня сыграть для них в одной из их постановок, еще больше ослабив традиционную иерархию между куратором и рядовыми участниками семинара. Это имело важные последствия для его дальнейшего развития и отношения к результатам работы. Значимость смены ролей и игры исследователей на камеру рассматривалась географом Сарой Киндон (Sara Kindon) на семинаре по ВВ, организованном ею во время своих исследований: «Подобные движения наших тел позади и перед камерой… символизируют степень дестабилизации традиционных отношений власти в исследовательских отношениях и, в особенности, претензии на неоспоримую прозрачность образа. В результате эти действия способствовали более явному признанию посредничества и ситуативности всех участников в политике производства знаний, связанных с целью проекта, а также вывели на более глубокий уровень доверия и понимания в рамках самого исследовательского партнерства» (Kindon 2003: 146).
Фильм «Мед», снятый в Анголе в 2013 г., был совершенно иным, главным образом потому, что мы с моим коллегой Мигелем Хиларио изо всех сил старались взаимодействовать с участниками нашего семинара. Мигель был родом из региона, находящегося в нескольких сотнях километров от этого места, и только недавно переехал в город поблизости отсюда. Он говорил на нгангуэла (Nganguela), умбунду и португальском, но не владел местным языком чокве. Хотя нам и удалось обсудить некоторые практические вопросы, подробные дискуссии на тему формы и содержания фильма, которые были центральным элемен-
том предыдущих семинаров, были невозможны. Когда я осознал эту проблему, в качестве дополнительного средства обмена информацией мы стали использовать рисунки. Например, участники сделали довольно тщательные зарисовки видов занятий, которые они хотели бы снять. Однако если участники предыдущих семинаров воспринимали всесторонние обсуждения как новый и обогащающий опыт, их отсутствие в Читембо (Chitembo) стало серьезным разочарованием для всех сторон.
Поэтому я попросил участников показать нам, о чем они хотели бы сделать фильм. Мы отправились в долгую прогулку по лесу, во время которой они показали нам с Мигелем ульи. Было решено, что Куинтас (Quintas), один из них, бывший опытным пчеловодом, продемонстрирует для фильма процессы сооружения традиционного улья и сбора меда. Бино (Bino), второй участник, тоже разбиравшийся в пчеловодстве и знавший поэтому всю последовательность действий, оказался чрезвычайно талантливым оператором. Во время съемок двое мужчин прекрасно сработались, в результате чего появился этнографически насыщенный материал для наблюдения. В фильме показывается, как пчеловод сначала легко перемещается по лесу, собирая различные материалы, необходимые для улья, процесс строительства которого передается очень подробно: умелые руки и простые инструменты, создающие сложный образец ремесленного мастерства. Фильм представляет воплощенные в яркую форму знания и является прекрасным примером аудиовизуальной этнографии.
Примечательно, что ангольские участники также выстраивали свои отношения с исследователями не только словесно, но и посредством импровизации и игры. Так, когда снимали сцену, показывающую использование меда в приготовлении пищи, две женщины, которые этим занимались, сказали нам с Мигелем, что они хотели бы запечатлеть на камеру, как мы пробуем сделанное ими блюдо. Если группа в Ботсване еще до начала съемок попросила меня выступить в роли актера, то ангольские участники вовлекли нас в сюжет фильма непосредственно в их процессе. К нашему удивлению только во время монтажа (с переводчиком) мы узнали, что Аделина (Adelina) и Фатима (Fátima) договорились об этом заранее. Говоря (довольно покровительственно) о нас (но без нас), они настойчиво позиционировали нас как «других».
Три описанных здесь фильма иллюстрируют различные способы, с помощью которых включенная съемка может расширять и улучшать перформативное пространство, составленное семинарами (Kothari 2004; Kesby 2005). Несмотря на то что обстановка фильмов представляется неприемлемой или ограниченной для незападных людей («aris 1992, Weiner 1997), можно видеть, что участники таких семинаров во всем мире успешно адаптировали ее для собственных целей (Turner 1992, 1995; Ginsburg 1991, 1995; Flores 2009). Мой собственный опыт пока-
зывает, что весь процесс кинопроизводства с присущими ему элементами совместного принятия решений, импровизации и актерского мастерства являет собой уникальное пространство для взаимодействия и создания чего-то значимого в сотрудничестве между исследователями, участниками семинара и внешними акторами. Процесс съемки выступает центральным элементом, способствующим импровизации, игре, риску и случаю, которые Жан Руш считал необходимыми для «вдохновенной игры». Включение постановочных сюжетов создает двойственность между вымыслом и реальностью, что облегчает актерскую игру и усиливает иерархию в исследованиях и сфере кино.
Коллективный монтаж
Основная идея фильмов заключалась в том, чтобы показать разные аспекты природопользования и поговорить с людьми, интересными для участников семинара. Нас вдохновило этнографическое кино, сочетающее в себе наблюдение и беллетризацию с неформальными беседами и интервью. Поскольку ограниченные временные рамки не позволяли научить участников пользоваться монтажными программами, я монтировал вместе с упомянутыми выше коллегами, поддерживая постоянную связь с группой9. Мой монтаж был основан на принципах целостности и последовательности. Обычно я делал предварительный отбор из всего отснятого материала и представлял его группе.
Фото 4. Коллективный монтаж в Серонге, Ботсвана
Из видеосъемки наблюдений и реконструкций мы делали грубую нарезку, чтобы дать общее представление, как выглядят те или иные занятия; из диалогов и интервью вырезали лишние или непонятные куски. Затем встречались с группой, вместе отсматривали материал и обсуждали, какие действия, диалоги и выдержки из интервью должны быть включены в фильм, а какие можно оставить без внимания. Как правило, этот выбор основывался на согласованных решениях, в некоторых случаях мы даже организовывали голосование. Внеся изменения, мы снова встречались через несколько дней, чтобы продолжить дальше. Общий сценарий складывался уже в процессе монтажа, и нам обычно приходилось доснимать материал для заполнения пробелов, например начальные планы или финальную песню. Монтаж строился на принципах документального реализма и этнографического кино, а также определялся моим личным видением. В то же время участники семинара принимали важные для структуры фильма решения. На мой взгляд, способ, которым мы монтировали фильмы, представлял собой процесс совместного конструирования рождения смыслов.
Коллективное восприятие
Каждый семинар по созданию фильмов завершался несколькими показами, организованными участниками в своих деревнях. Отклики сообщества были в целом положительными и инициировали многочисленные дискуссии. В конце проекта, когда все фильмы были завершены, мы организовали деревенские показы всех трех фильмов в регионах исследования в Анголе, Намибии и Ботсване. Реакция аудитории однозначно свидетельствовала, что зрители сумели обнаружить параллели между собственными ситуациями и представленными в фильмах из соседних стран. По-видимому, фильмы смогли передать ощущение общей идентичности, несмотря на национальные, языковые и этнические различия. Показ фильмов в присутствии съемочной группы и главных героев предоставил новые возможности для их обсуждения (Englehart 2003; Stadler 2003). Хотелось бы заметить, что мощные импульсы от актерской игры распространялись на аудиторию и во время просмотра.
Дальнейшие перспективы
Можно рассматривать такой способ создания фильмов как форму «псевдовключенности», поскольку влияние их на исследования в целом и условия жизни людей было явно ограниченным. Однако мне хотелось бы оценить их позитивно. Прежде всего, сами участники проекта восприняли это как значимый для них опыт, а местные сообщества — как один из наиболее важных результатов исследования. Если посмотреть
шире, то эти фильмы визуализируют сельских жителей, которые иначе могли бы остаться лишь в рамках исследовательского проекта, невидимыми для широкой общественности. Эти фильмы изображают их как экспертов, знатоков своей окружающей среды, как активных и многогранных личностей. Еще более важно, что представители маргинальных сообществ в значительной степени повлияли на форму и содержание этих фильмов, играя лидирующие роли в процессе их производства. Наконец, я воспринимаю эти фильмы как форму антропологического исследования.
Фото 5. Показ фильма в Машаре, Намибия
Несмотря на множество общих черт, существует целый ряд методологических и эпистемологических различий между этнографическим фильмом и записями, сделанными режиссерами-не-антропологами. Исследовательские по своей природе этнографические фильмы «стремятся истолковать одно общество для другого» (MacDougall 1992: 96).
Подкрепленный антропологической теорией и основанный на полевых этнографических исследованиях, этот жанр обычно (но не исключительно) являет собой взгляд человека со стороны на изучаемую культуру или группу (см., например, MacDougall 1995; Ruby 2000). Инди-генные фильмы и другие «тематические медиа» (Ruby 2000) — это саморепрезентации, направленные в первую очередь на членов собственного сообщества или культуры Crawford 1995; Ginsburg 1995). Эти фильмы, как правило, являются скорее предикативными и кодифици-
рующими, чем исследовательскими, часто способствуя обсуждению культурной интичности (Ruby 2000: 196). Создание включенного этнографического кино не нацелено на предоставление возможности отдельным лицам или группам делать свои собственные фильмы, как в случае с индигенными медиа или недавней работой Дэвида Макдугалла (MacDougall et al. 2013). Описанные здесь фильмы сочетают антропологические и локальные перспективы в процессе межкультурного взаимодействия, одинаково интересного и значимого как для местной, так и для широкой аудитории. Включенное этнографическое кино может применяться во множестве разных контекстов. Передача камеры в руки представителей изучаемой культуры, что является одним из его основных принципов, полностью меняет процесс кинопроизводства и, следовательно, его результат.
Примечания
1 Дополнительную информацию можно найти здесь: http://future-okavango.org/ (дата обращения: 04.04.2016).
2 Практики Руша многократно критиковались рядом ученых и режиссеров, увидевших в них патерналистскую, аполитичную, колонизаторскую и даже расистскую составляющую. Полный обзор критики см.: Henley 2009: 330.
3 В то время как сам Руш называл этот подход «cinéfiction», «кинофикшн», со временем он получил название «этнофикшн». Однако происхождение термина остается неизвестным (Henley 2009: 74, 441).
4 Известным исключением является «Проект Навахо» под руководством Сола Уорта (Sol Worth) и Джона Адэра (John Adair) (1972), которые обучили индейцев племени Навахо снимать видео на 16-миллиметровую кинопленку. Однако они использовали эти фильмы в качестве материала для анализа, целью которого было выяснить, существует ли у представителей племени Навахо особый взгляд на мир, а также сделать более общие выводы об их мировоззрении и культуре.
5 Целью этих мероприятий было ознакомление с основными данными по определенной этнической группе или географической местности посредством демонстрации фильмов, снятых антропологами, съемочной группой и актерами, наряду с фильмами, созданными членами исследуемой группы. Для информации см. сайт Comité du Film Ethnographique (2016).
6 Прикладная визуальная антропология включает в себя разнообразные формы деятельности, связанные так тесно, что они «используют визуальную антропологическую теорию, методологию и практику для достижения прикладных неакадемических целей» (Pink 2006: 87). В то же время эти проекты потенциально могут снова обратиться к науке, внося вклад в построение теории и инновационной методологии (Pink 2009: 25).
7 Одним из подобных проектов, которому обычно приписывают большой вклад в развитие ВВ, является «Процесс Фого» (Fogo Process), ставший частью программы «Challenge for Change» Канадского национального управления кинематографии (NFB) (см.: Lunch & Lunch 2006; White 2003b; Frantz 2007).
8 В Анголе я решил попробовать другой подход, поскольку создание тематически сфокусированного фильма показалось мне более интересным с точки зрения кино. Коллега с проекта TFO, проводивший антропологическое исследование в этой местности, сказал мне, что пчелы являются здесь важным средством существования и источником прибыли. В связи с этим я спросил участников, хотели бы они снять фильм «Мёд». Они подтвердили значимость проблемы и решили сделать фильм о различных аспектах пчеловодства.
9 В Анголе мы наняли молодого человека, свободно владевшего чокве и португальским,
для перевода и консультирования по вопросам культуры во время монтажа.
Литература
Arnstein Sh. A Ladder of Citizen Participation // The City Reader. Stout / Eds. by F. & R.T. Le Gates. New York ; London: Routledge, 2007. P. 244-255.
Aufderheide P. The Video in the Villages Project: Videomaking with and by Brazilian Indians // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 83-93.
Braden S. Video for Development. A Casebook from Vietnam. Oxford: Oxfam, 1998.
Cleaver F. Paradoxes of Participation: Questioning Participatory Approaches to Development // Journal of International Development. 1999. № 11. Р. 597-612.
Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / Eds. by J. Clifford, G. Marcus. University of California Press, 1986.
Comité du Film Ethnographique. Regards Comparés. 2016. URL: http://comiteduflmeth nographique.com/regards-compares (accessed 15.04.2016).
Cooke B., Kothari U. The Case for Participation as Tyranny // Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London ; New York: Zed Books. 2004. P. XII. 207 s.
Crawford P.I. Nature and Advocacy in Ethnographic Film: The Case of Kayapô Imagery // Advocacy and Indignous Filmmaking / Eds. by H.H. Philippsen, B. Markussen. Hajbjerg: Intervention Press, 1995. P. 7-22.
D ‘engelbronner-kolff F.M. A Web of Legal Cultures: Dispute Resolution Processes Amongst the Sambyu of Northern Namibia. Vrije Universiteit Amsterdam, 2001.
Durington M. Participatory and Applied Visual Anthropology with the Botswana San // Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Studies in Applied Anthropology / Ed. by S. Pink. Oxford: Berghahn, 2009. Vol. 4. P. 191-207.
Elder S. Collaborative Filmmaking: An Open Space for Making Meaning, a Moral Ground for Ethnographic Film // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 94-101.
Englehart L. Media Activism in the Screening Room: The Signfcance of Viewing Locations, Facilitation and Audience Dynamics in the Reception of HIV/AIDS Films in South Africa // Visual Anthropology Review. 2003. № 19 (1-2). Р. 73-85.
Faris J. Anthropological Transparency: Film, Representation and Politics // Film as Ethnography / Eds. by P.I. Crawford, D. Turton. Manchester: Manchester University Press, 1992. P. 171-182.
Ferguson J. The Anti-Politics Machine: «Development», Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
Flores C. Sharing Anthropology: Collaborative Video Experiences among Maya Film-Makers in Post-War Guatemala // Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Studies in Applied Anthropology / Ed. by S. Pink. Oxford: Berghahn, 2009. Vol. 4. P. 209-223.
Foucault M. Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995.
Foucault M. Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Har-low: Pearson Education, 2010.
Frantz J. Using Participatory Video to Enrich Planning Processes // Planning Theory & Practice. 2007. № 8 (1). Р. 103-107.
Freire P. Pädagogik Der Unterdrückten: Bildung Als Praxis Der Freiheit. Reinbek: Rowohlt, 1977.
Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press, 1984.
Ginsburg F. The Parallax Effect: The Impact of Aboriginal Media on Ethnographic Film // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 64-76.
Ginsburg F. Indigenous Media: Faustian Contract or Global Village? // Cultural Anthropology. 1991. № 6 (1). Р. 92-112.
Ginsburg F. Native Intelligence: A Short History of Debates on Indigenous Media and Ethnographic Film // Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology / Eds. by J. Ruby, M. Banks. Chicago ; London: University of Chicago Press, 2011.
Ginsburg F., Abu-lughod L., Larkin B. Introduction // Media Worlds: Anthropology on New Terrain / Eds. by F. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin. Berkeley: University of California Press, 2002. P. 1-36.
Goffman E. Wir Alle Spielen Theater: Die Selbstdarstellung Im Alltag. München: Piper, 2010.
Grimshaw A. The Ethnographer’s Eye: Ways of Seeing in Modern Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Gruber M. Liparu Lyetu — Our Life. Participatory Ethnographic Filmmaking in Applied Contexts. Bremen: University of Bremen, 2015.
Henkel H., Stirrat R. Participation as Spiritual Duty; Empowerment as Secular Subjection. In Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 2004. P. 168-184.
Henley P. Putting Film to Work: Observational Cinema as Practical Ethnography // Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography / Eds. by S. Pink, L. Kürti, A.I. Afonso. London ; New York: Routledge, 2004. P. 109-130.
Henley P. The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. Chicago; London: University of Chicago Press, 2009.
Jorgensen A.M. Filmmaking as Ethnographic Dialogues: Rouch’s Family of «Scoundrels» in Niger // Visual Anthropology. 2007. № 20 (1). P. 57-73.
Kesby M. Retheorizing Empowerment-through-Participation as a Performance in Space: Beyond Tyranny to Transformation // Signs. 2005. № 30 (4). P. 2037-2065.
Kindon S. Participatory Video in Geographic Research: A Feminist Practice of Looking? // Area. 2003. № 35 (2).
Kothari U. Power, Knowledge and Social Control in Participatory Development // Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 2004. P. 139-152.
Loizos P. Innovation in Ethnographic Film from Innocence to Self-Consciousness, 19551985. Manchester: Manchester University Press, 1993.
Lunch N., Lunch C. Insight into Participatory Video. A Handbook or the Field. Oxford: In-sightshare, 2006.
Macdougall D. Media Friend or Media Foe? // Visual Anthropology. 1987. № 1 (1). P. 54-58.
Macdougall D. Complicities of Style // Film as Ethnography / Eds. by P.I. Crawford, D. Tur-ton. Manchester: Manchester University Press, 1992. P. 90-98.
Macdougall D. Beyond Observational Cinema // Principles of Visual Anthropology / Ed. by P. Hockings. Berlin; New York de Gruyter, 1995. P. 115-133.
Menter H., RoaM.C., Beccera O.F., Roa C., Celemin W. Using Participatory Video to Develop Youth Leadership Skills in Colombia // Participatory Learning and Action. 2006. № 55 (December). P. 107-114.
Michaels E. The Aboriginal Invention of Television in Central Australia. 1982-1986. Australian Inst. of Aboriginal Studies. 1986.
Mistry J., Berardi A. The Challenges and Opportunities of Participatory Video in Geographical Research: Exploring Collaboration with Indigenous Communities in the North Ru-pununi, Guyana // Area. 2011. P. 1-7.
MosseD. ‘People’s Knowledge’, Participation and Patronage: Operations and Representations in Rural Development // Participation: The New Tyranny? / Eds. by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 2004. P. 16-35.
Nichols B. The Ethnographer’s Tale // Visual Anthropology Review. 1991. № 7 (2). P. 31-47.
Nigg H., Wade G. Community Media: Community Communication in the United Kingdom -Video, Local T. V., Film and Photography. Zürich: Regenbogen-Verlag, 1980.
Oakley P. Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Offce, 1991.
Pink S. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. Routledge, 2006.
Pink S. Applied Visual Anthropology. Social Interventions and Visual Methodologies // Visual Interventions: Applied Visual Anthropology / Ed. by S. Pink. Oxford: Berghahn, 2009. P. 3-28.
Rouch J. Cine-Ethnography. University of Minnesota Press, 2003.
Ruby J. Picturing Culture: Explorations of Film & Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Russell W.A., Wickson F., Carew A.L. Transdisciplinarity: Context, Contradictions and Capacity // Futures. 2008. № 40 (5). Р. 460-472.
Sjoberg J. Ethnofction: Drama as a Creative Research Practice in Ethnographic Film // Journal of Media Practice. 2008. № 9 (3). Р. 229-242.
Sjoberg J. Ethnofction and Beyond: The Legacy of Projective Improvisation in Ethnographic Filmmaking. Paper Presented at the International Conference ‘a Knowledge Beyond Text’ at Centre Pompidou in Paris, November 2009. URL: www.comite-flm-ethno.net/colloque-jean-rouch/textes-colloque-JR/Sjoberg.pdf (accessed: 16.10.2011).
Stadler J. Narrative, Understanding and Identifcation in Steps for the Future: HIV/AIDS Documentaries // Visual Anthropology Review. 2003. № 19 (1-2). Р. 86-101.
Stoller P. The Cinematic Griot: The Ethnography of Jean Rouch. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
Turner T. The Social Dynamics of Video Media in an Indigenous Society: The Cultural Meaning and the Personal Politics of Video-Making in Kayapo Communities // Visual Anthropology Review. 1991. № 7 (2). Р. 68-76.
Turner T. Defant Images: The Kayapo Appropriation of Video // Anthropology Today. 1992. № 8 (6). Р. 5-16.
Turner T. Representation, Collaboration and Mediation in Contemporary Ethnographic and Indigenous Media // Visual Anthropology Review. 1995. № 11 (2). Р. 102-106.
Verba S., Nie N.H. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper, Row, 1972.
Weinberger E. The Camera People // Visualizing Theory. Selected Essays from V.A.R. 19901994 / Ed. by L. Taylor. New York; London: Routledge, 1994. P. 3-26.
Weiner J.F. Televisualist Anthropology: Representation, Aesthetics, Politics // Current Anthropology. 1997. № 38 (2). Р. 197-235.
White S.A. Participatory Video: A Process That Transforms the Self and the Other // Participatory Video: Images That Transform and Empower / Ed. by S.A. White. London: Sage Publications, 2003a. P. 63-101.
White S.A. Participatory Video: Images That Transform and Empower. London: Sage Publications, 2003b.
Wickson F., Carew A.L., Russell A. Wendy. Transdisciplinary Research: Characteristics, Quandaries and Quality // Futures. 2006. № 38. Р. 1046-1059.
Worth S., Adair J. Through Navajo Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology. Bloomington, London: Indiana University Press, 1972.
Zoettl P.A. Images of Culture: Participatory Video, Identity and Empowerment // International Journal of Cultural Studies published online. 3 August 2012. DOI: 10.1177/1367877912452498.
Перевод с английского языка Е.В. ван Гервен Статья поступила в редакцию 6 января 2017 г.
Gruber Martin
PARTICIPATORY ETHNOGRAPHIC FILMMAKING: TRANSCULTURAL COLLABORATION IN RESEARCH AND FILMMAKING
Abstract. This paper introduces an approach of Participatory Ethnographic Filmmaking the author developed by making films together with rural dwellers in Namibia, Botswana and Angola. Grounded in the field of ethnographic filmmaking, it aims at making anthropologically informed films together with groups of people with no previous filmmaking experience. Workshop participants shape the form and content of the film and contribute to its practical making. In this paper, the author explains how such films can be made in a wide range of different settings. Participatory Ethnographic Filmmaking gives the participants the possibility to shape their own media image and generates new forms of collaborative knowledge.
Keywords: visual anthropology, ethnographic film, participatory filmmaking, collaborative filmmaking, collaborative research, audio-visual ethnography, collaborative knowledge
DOI: 10.17223/2312461X/17/4
References
Arnstein, Sh. A Ladder of Citizen Participation, The City Reader. Stout, F. & R. T. Le
Gates (eds.). New York & London: Routledge. 2007, pp. 244-255. Aufderheide, P. The Video in the Villages Project: Videomaking with and by Brazilian Indians, Visual Anthropology Review, 1995, no. 11(2), pp. 83-93. Braden, S. Video for Development. A Casebook from Vietnam. Oxford: Oxfam, 1998. Cleaver, F. Paradoxes of Participation: Questioning Participatory Approaches to Development, Journal of International Development, 1999, no. 11, pp. 597-612. Clifford, J., Marcus, G. eds. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press, 1986. Comité du Film Ethnographique. Regards Comparés. 2016. Available at:
http://comiteduflmethnographique. com/regards-compares (Accessed 15 April 2016). Cooke, B., Kothari, U. The Case for Participation as Tyranny, Participation: The New Tyranny? Cooke, B. & U. Kothari (eds.). London & New York: Zed Books, 2004, P. XII, 207 p. Crawford, P.I. Nature and Advocacy in Ethnographic Film: The Case of Kayapô Imagery, Advocacy andIndignous Filmmaking. Philippsen, H. H. & B. Markussen (eds.). Hjzjbjerg: Intervention Press,1995, pp. 7-22. D’engelbronner-kolff, F.M. A Web of Legal Cultures: Dispute Resolution Processes Amongst
the Sambyu of Northern Namibia. Vrije Universiteit Amsterdam, 2001. Durington, M. Participatory and Applied Visual Anthropology with the Botswana San., Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Studies in Applied Anthropology, Vol. 4. Pink, S. (ed.). Oxford: Berghahn, 2009, pp. 191-207. Elder, S. Collaborative Filmmaking: An Open Space for Making Meaning, a Moral Ground
for Ethnographic Film, Visual Anthropology Review, 1995, no. 11(2), pp. 94-101. Englehart, L. Media Activism in the Screening Room: The Signfcance of Viewing Locations, Facilitation and Audience Dynamics in the Reception of HIV/AIDS Films in South Africa, Visual Anthropology Review, 2003, no. 19 (1-2), pp. 73-85. Faris, J. Anthropological Transparency: Film, Representation and Politics, Film as Ethnography. Crawford, P. I. & D. Turton (eds.). Manchester: Manchester University Press, 1992, pp. 171-182.
Ferguson, J. The Anti-Politics Machine: «Development», Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
Flores, C. Sharing Anthropology: Collaborative Video Experiences among Maya FilmMakers in Post-War Guatemala, Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Studies in Applied Anthropology, Vol. 4, Pink, S. (ed.). Oxford: Berghahn, 2009, pp. 209-223.
Foucault, M. Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books. 1995.
Foucault, M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Harlow: Pearson Education, 2010.
Frantz, J. Using Participatory Video to Enrich Planning Processes, Planning Theory & Practice, 2007, no. 8 (1), pp. 103-107.
Freire, P. Pädagogik Der Unterdrückten: Bildung Als Praxis Der Freiheit. Reinbek: Rowohlt, 1977.
Giddens, A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press, 1984.
Ginsburg, F. Indigenous Media: Faustian Contract or Global Village?, Cultural Anthropology, 1991, no. 6 (1), pp. 92-112.
Ginsburg, F. Native Intelligence: A Short History of Debates on Indigenous Media and Ethnographic Film, Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology. Ruby, J. & M. Banks (eds.). Chicago and London: University of Chicago Press, 2011.
Ginsburg, F. The Parallax Effect: The Impact of Aboriginal Media on Ethnographic Film, Visual Anthropology Review, 1995, no. 11 (2), pp. 64-76.
Ginsburg, F., Abu-lughod, L., Larkin, B. Introduction, Media Worlds : Anthropology on New Terrain. Ginsburg, F., L. Abu-Lughod & B. Larkin (eds.). Berkeley: University of California Press, 2002, pp. 1-36.
Goffman, E. Wir Alle Spielen Theater: Die Selbstdarstellung Im Alltag. München: Piper, 2010.
Grimshaw, A. The Ethnographer’s Eye: Ways of Seeing in Modern Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Gruber, M. Liparu Lyetu — Our Life. Participatory Ethnographic Filmmaking in Applied Contexts. Bremen: University of Bremen. 2015.
Henkel, H., Stirrat, R. Participation as Spiritual Duty; Empowerment as Secular Subjection, Participation: The New Tyranny? Cooke, B. & U. Kothari (eds.). London: Zed Books, 2004, pp. 168-184.
Henley, P. Putting Film to Work: Observational Cinema as Practical Ethnography, Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography. Pink, S., L. Kürti & A. I. Afonso (eds.). London & New York: Routledge, 2004, pp. 109-130.
Henley, P. The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. Chicago; London: University of Chicago Press, 2009.
Jergensen, A.M. Filmmaking as Ethnographic Dialogues: Rouch’s Family of «Scoundrels» in Niger, Visual Anthropology, 2007, no. 20 (1), pp. 57-73.
Kesby, M. Retheorizing Empowerment-through-Participation as a Performance in Space: Beyond Tyranny to Transformation, Signs, 2005, no. 30 (4), pp. 2037-2065.
Kindon, S. Participatory Video in Geographic Research: A Feminist Practice of Looking?, Area, 2003, no. 35 (2).
Kothari, U. Power, Knowledge and Social Control in Participatory Development, Participation: The New Tyranny? Cooke, B. & U. Kothari (eds.). London: Zed Books, 2004, pp. 139-152.
Loizos, P. Innovation in Ethnographic Film from Innocence to Self-Consciousness, 1955-85. Manchester: Manchester University Press, 1993.
Lunch, N., Lunch, C. Insight into Participatory Video. A Handbook or the Field. Oxford: Insightshare, 2006.
Macdougall, D. Beyond Observational Cinema, Principles of Visual Anthropology. Hockings, P. (ed). Berlin & New York de Gruyter, 1995, pp. 115-133.
Macdougall, D. Complicities of Style, Film as Ethnography. Crawford, P. I. & D. Turton (eds). Manchester: Manchester University Press, 1992, pp. 90-98.
Macdougall, D. Media Friend or Media Foe?, Visual Anthropology, 1987, no. 1 (1), pp. 54-58.
Menter, H., Roa, M.C., Beccera, O.F., Roa, C., Celemin, W. Using Participatory Video to Develop Youth Leadership Skills in Colombia, Participatory Learning and Action, 2006, no. 55 (December), pp. 107-114.
Michaels, E. The Aboriginal Invention of Television in Central Australia. 1982-1986. Australian Inst. of Aboriginal Studies, 1986.
Mistry, J., Berardi, A. The Challenges and Opportunities of Participatory Video in Geographical Research: Exploring Collaboration with Indigenous Communities in the North Ru-pununi, Guyana, Area, 2011, pp. 1-7.
Mosse, D. ‘People’s Knowledge’, Participation and Patronage: Operations and Representations in Rural Development, Participation: The New Tyranny? Cooke, B. & U. Kothari (eds). London: Zed Books, 2004, pp. 16-35.
Nichols, B. The Ethnographer’s Tale, Visual Anthropology Review, 1991, no. 7(2), pp. 31-47.
Nigg, H., Wade, G. Community Media: Community Communication in the United Kingdom -Video, Local T. V., Film and Photography. Zürich: Regenbogen-Verlag, 1980.
Oakley, P. Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Office, 1991.
Pink, S. Applied Visual Anthropology. Social Interventions and Visual Methodologies, Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Pink, S. (ed.). Oxford: Berghahn, 2009, pp. 3-28.
Pink, S. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. Routledge, 2006.
Rouch, J. Cine-Ethnography. University of Minnesota Press, 2003.
Ruby, J. Picturing Culture: Explorations of Film & Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Russell, W.A., Wickson, F., Carew, A.L. Transdisciplinarity: Context, Contradictions and Capacity, Futures, 2008, no. 40 (5), pp. 460-472.
Sjöberg, J. Ethnofction and Beyond: The Legacy of Projective Improvisation in Ethnographic Filmmaking. Paper Presented at the International Conference ‘a Knowledge Beyond Text’ at Centre Pompidou in Paris, November 2009. Available at: www.comite-flm-ethno.net/colloque-jean-rouch/textes-colloque-JR/Sjoberg.pdf (Accessed 16 October 2011).
Sjöberg, J. Ethnofction: Drama as a Creative Research Practice in Ethnographic Film, Journal of Media Practice, 2008, no. 9 (3), pp. 229-242.
Stadler, J. Narrative, Understanding and Identifcation in Steps for the Future: HIV/AIDS Documentaries, Visual Anthropology Review, 2003, no. 19 (1-2), pp. 86-101.
Stoller, P. The Cinematic Griot: The Ethnography of Jean Rouch. Chicago: University of Chicago Press. 1992.
Turner, T. Defant Images: The Kayapo Appropriation of Video, Anthropology Today, 1992, no. 8 (6), pp. 5-16.
Turner, T. Representation, Collaboration and Mediation in Contemporary Ethnographic and Indigenous Media, Visual Anthropology Review, 1995, no. 11 (2), pp. 102-106.
Turner, T. The Social Dynamics of Video Media in an Indigenous Society: The Cultural Meaning and the Personal Politics of Video-Making in Kayapo Communities, Visual Anthropology Review, 1991, no. 7 (2), pp. 68-76.
Verba, S., Nie, N.H. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper, Row, 1972.
Weinberger, E. The Camera People, Visualizing Theory. Selected Essays from V.A.R. 19901994. Taylor, L. (ed.). New York & London: Routledge, 1994, pp. 3-26.
Weiner, J.F. Televisualist Anthropology: Representation, Aesthetics, Politics, Current Anthropology, 1997, no. 38 (2), pp. 197-235.
White, S. A. Participatory Video: A Process That Transforms the Self and the Other, Participatory Video: Images That Transform and Empower. White, S. A. (ed.). London: Sage Publications, 2003, pp. 63-101.
White, S. A. Participatory Video: Images That Transform and Empower. London: Sage Publications, 2003.
Wickson, F., Carew, A.L., Russell, A. Wendy. Transdisciplinary Research: Characteristics, Quandaries and Quality, Futures, 2006, no. 38, pp. 1046-1059.
Worth, S., Adair, J. Through Navajo Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology. Bloomington, London: Indiana University Press, 1972.
Zoettl, P.A. Images of Culture: Participatory Video, Identity and Empowerment, International Journal of Cultural Studies published online 3 August 2012: DOI: 10.1177/1367877912452498.
Междисциплинарность и совместное кинопроизводство в антропологическом кино | Оганезов
1. Нанук с севера = Nanook of the North : [документальный фильм] / реж. Р. Дж. Флаэрти. США ; Франция, 1922. 78 мин. (Фильм немой).
2. Моана = Moana : [документальный фильм] / реж.: Ф.Х. Флаэрти; Р.Дж. Флаэрти. США. 1926. 62 мин.
3. Gregory B., Mead М. Balinese Character: a Photographic Analysis. New York : Academy of Sciences, 1942. 277 p.
4. MacDougall D. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses. Princeton : Princeton University Press, 2006. 312 p.
5. Interview with Martin Gruber : [видеозапись] / беседовал А.Э. Оганезов. URL: https://vimeo.com/291266729 (дата обращения:
6. 10.2018).
7. Андерсон П. Истоки постмодерна / пер. с англ. А. Апполонова : под ред. М. Маяцкого. Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2011. 200 с. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»).
8. Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / пер. с франц. А.Ю. Коннова. Москва : Новое литературное обозрение, 2017. 136 с. (Серия STUDIA URBANICA).
9. Pink S. Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. New York ; Abingdon : Routledge, 2006. 166 p.
10. Harvey D. The Condition of Postmodernity: an Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge, MA : Blackwell Publ., 1990. 378 p.
11. Rosenau P. Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions. Princeton : Princeton University Press, 1992. 229 p.
12. Грубер М. «Включенное» этнографическое кино: межкультурное сотрудничество в исследованиях и кинопроизводстве / пер. с англ. Е.В. ван Гервен // Сибирские исторические исследования. 2017. № 3. С. 49—80. DOI: 10.17223/2312461X/17/4.
13. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. Москва : Академический Проект, 2006. 448 с. (Серия «Технологии»).
14. Nash C. The unravelling of the postmodern mind. Edinburgh : Edinburgh University Press. 2001. 310 p.
15. Александров Е.В. Опыт рассмотрения теоретических и методологических проблем визуальной антропологии. Москва : Пенаты, 2003. 99 с.
16. Atkinson P., Delamont S., Housley W. Contours of Culture: Complex Ethnography and the Ethnography of Complexity. Altamira Press, 2007. 268 p.
17. Pink S. Doing Sensory Ethnography. SAGE Publications Ltd., 2009. 168 p.
18. Interviews from Tartu Worldfilm Festival 2018 : [видеозапись]. URL: https://vimeo.com/292453149 (дата обращения: 08.10.2018).
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ КИНО В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Источники и материалы
Вилкуна 1978 — Вилкуна К. Экспедиция Сакари Пяльси в Северо-Восточную Сибирь (1917–1919 гг.) // Этнографическое обозрение. 1978. № 3. С. 111–116.
Годовщина революции 2019 — «Годовщина революции» Вертова: Первый экзамен. С Николаем Изволовым беседовал Никита Смирнов // Блог-журнал «Сеанс». 2018. 20 ноября URL: https://seance.ru/blog/interviews/ revolution-vertov-izvolov/ (дата обращения: 11.02.2019).
Жданова 2014 — Жданова В. К материалам по истории отечественного кинопроцесса конца 1920-х — начала 30-х гг. Замысел создания «Кино-Атласа СССР». URL:
http://varvarajdanova.esrae.ru/pdf/2014/11/2.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
Лемберг 1976 — Лемберг А. Дружба, испытанная десятилетиями // Дзига Вертов в воспоминаниях современников. М., 1976. С. 79–85.
Малевич 1919 — Малевич К. Программа «левых» беспредметников в журнале «Изобразительное искусство», № 1, 1919 г. // Советское искусство за 15 лет. М.; Л., 1933. С. 110.
РАПХ 1931 — РАПХ (Российская ассоциация пролетарских художников) в журнале «За пролетарское искусство», 1931, № 5 // Советское искусство за 15 лет. М.; Л., 1936. С. 635.
Форум 2007 — Форум «Визуальная антропология» // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 6–108.
Исследования
Александров 2017 — Александров Е. В. Центростремительный вектор в безграничьи визуальной антропологии // Сибирские исторические исследования. 2017. № 3. С. 11–28.
Арзютов 2016 — Арзютов Д. Этнограф с кинокамерой в руках: Прокофьевы и начало визуальной антропологии самодийцев // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 187–219.
Баклин, Калашников 2003 — Баклин Н. В., Калашников А. Г. Первые шаги научного кино в России / Публ. А. С. Дерябина; Коммент. С. В. Сковородниковой при участии А. С. Дерябина // Киноведческие записки. 2003. № 64. С. 184–189.
Баталин, Малышева 2011 — Баталин В. Н., Малышева Г. Е. История Российского государственного архива кинофотодокументов. 1926– 1966 гг. СПб., 2011.
Ватолин 2002 — Ватолин В. Синема в Сибири: Очерки истории раннего сибирского кино (1896–1917) (Окончание) // Киноведческие записки. 2002. № 61. С. 369–370.
Вертов 1966 — Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966.
Вишневский 1996 — Вишневский В. Е. Документальные фильмы дореволюционной России: 1907–1916. М., 1996.
Гиберт, Ныркова 2016 — Гиберт Г. Г., Ныркова Д. А. Кавказ в дореволюционном документальном кино // Наследие веков. 2016. № 1. С. 70–73.
Гинзбург 1963 — Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., 1963.
Головнев 2016 — Головнев И. Лесные люди — феномен советского этнографического кино // Этнографическое обозрение. 2016. № 2. С. 83–98.
Головнева, Головнев 2016 — Головнева Е. В., Головнев И. А. Визуализация региона средствами кинематографа (на примере «Киноатласа СССР») // Известия Уральского федерального университета. Серия 1. 2016. № 22 (3). С. 146–151.
Дерябин 1995 — Дерябин А. Вертов и Ерофеев: Две ветви документалистики // Каталог Флаэртиана. Пермь, 1995. С. 65–71.
Дерябин 1999 — Дерябин А. О фильмах-путешествиях и Александре Литвинове // Вестник «Зеленое спасение». 1999. № 11. С. 14–23.
Дерябин 2001 — Дерябин А. «Наша психология и их психология — совершенно разные вещи». «Афганистан» Владимира Ерофеева и советский культурфильм двадцатых годов // Киноведческие записки. 2001. № 54. C. 53–70.
Зоркая 2005 — Зоркая Н. М. История советского кино. СПб., 2005.
Ишевская, Вирен 2007 — Ишевская С., Вирен Д. Болеслав Матушевский. Живая фотография: чем она является и чем должна стать / Пер. Г. Болтянский; Публ., предисл. и коммент. С. Ишевской и Д. Вирена // Киноведческие записки. 2007. № 83. С. 127–161.
Лебедев 1947 — Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР: Немое кино. М., 1947.
Магидов 1999 — Магидов В. М. Итоги кинематографической и научной деятельности Б. Матушевского в России // Киноведческие записки. 1999. № 43. С. 268–280.
Магидов 2013 — Магидов В. М. Источники о деятельности Скобелевского комитета и его роли в отечественном кинопроцессе накануне и в ходе Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций 1917 г. // Вестник архивиста. 2013. № 1 (121). С. 65–81.
Медведев 2011 — Медведев М. Дзига Вертов. Ловец звуков, или Доктор Франкенштейн // Перемены. 2011.02.01. URL: https://www.peremeny. ru/blog/6704 (дата обращения: 14.04.2014).
Миславский 2006 — Миславский В. Н. Альфред Федецкий: к биографии первого российского кинооператора // Киноведческие записки. 2006. № 77. С. 163–213.
Первый форум 2004 — Первый форум. Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 6–101.
Рошаль 1982 — Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982.
Чуйко 2019 — Чуйко С. Тропой Сакари Пялси // Крайний Север. 2019.18.10. URL: http://www.ks87.ru/82/6983.html (дата обращения: 11.02.2019).
Czeczot-Gawrak 1995 — Czeczot-Gawrak Z.
Bolesław Matuszewski, filozof i pionier dokumentu filmowego // Bolesław Matuszewski. Nowe źródło historii. Ożywiona fotografia, czym jest, czym byc powinna. Warszawa, 1995. S. 11–12.
Jacoby 1995 — Jacoby J. Znałem Bolesława Matuszewskiego // Bolesław Matuszewski. Nowe źródło historii. Ożywiona fotografia, czym jest, czym byc powinna. Warszawa, 1995. S. 37–42.
Pink 2006 — Pink S. The future of visual anthropology: Engaging the senses. London, 2006. Ruby 2004 — Ruby J. The anthropology of visual communication at Temple University. 1967 to 2004. A personal view. URL: http://astro.temple.edu/~ruby/vatu/index.htm (дата обращения: 05.08.2017).
| Title: | Этнографическое кино как аудиовизуальный документ по антропологии детства |
| Other Titles: | Ethnographic film as an audiovisual document on Anthropology of Childhood |
| Authors: | Golovneva, E. V. Golovnev, I. A. Головнева, Е. В. Головнев, И. А. |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Издательство Уральского университета |
| Citation: | Головнева Е. В. Этнографическое кино как аудиовизуальный документ по антропологии детства / Е. В. Головнева, И. А. Головнев // Документ. Архив. История. Современность : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. — С. 462-465. |
| Abstract: | This article explores the specific audiovisual source — ethnographic film as an alternative to text description on Anthropology of Childhood. The authors analyze some prominent documentaries related with children and childhood as well as investigate the use of cinematographic method in Ethnography Studies. The authors came to conclusion that Ethnographic Film should be considered as an effective methodological tool for Anthropology of Childhood. В статье рассматривается особый аудиовизуальный источник – этнографическое кино как альтернатива текстового описания темы детства в антропологии. Авторы выделяют ряд значимых документальных антропологических фильмов, в которых представлены детство и дети, а также анализируют использование средств кинематографа в этнографии. Делается вывод о том, что этнографическое кино представляет собой ведущий методологический инструмент изучения детства в той или иной культуре. |
| Keywords: | VISUAL ANTHROPOLOGY ETHNOGRAPHIC FILM ANTHROPOLOGY OF CHILDHOOD INDIGENOUS PEOPLES AUDIOVISUAL DOCUMENT ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ КИНО АНТРОПОЛОГИЯ ДЕТСТВА КОРЕННЫЕ НАРОДЫ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ |
| URI: | http://hdl.handle.net/10995/44133 |
| Conference name: | VI Международная научно-практическая конференция «Документ. Архив. История. Современность» |
| Conference date: | 02.12.2016-03.12.2016 |
| RSCI ID: | https://elibrary.ru/item.asp?id=28119606 |
| ISBN: | 978-5-7996-1937-4 |
| metadata.dc.description.sponsorship: | Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 16-33-01038 «Образ региона в культурфильме (на примере творчества А. Литвинова)». |
| Origin: | Документ. Архив. История. Современность. — Екатеринбург, 2016 |
| Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Специалисты МПГУ провели Этнографическую олимпиаду в Институте кино и телевидения (ГИТР)
27 мая 2021 года в московском Институте кино и телевидения состоялось мероприятие проекта Этнографической олимпиады «Москва – столица многонациональной России». В мероприятии приняли участие студенты направлений «Журналистика», «Дизайн» и «Менеджмент» данного института.
Открыла встречу ведущий специалист Факультета регионоведения и этнокультурного образования ИСГО МПГУ, кандидат исторических наук Е.О. Хабенская. Она кратко рассказала учащимся вуза об истории Московской этнографической олимпиады, о важности знакомства с многообразием культур народов России и мира для молодого человека, живущего в условиях многонационального столичного мегаполиса.
Потом перед студентами выступила доцент кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования МПГУ, кандидат исторических наук А.Ю. Орлова с интерактивной лекцией, посвященной современному поиску путей культурной самобытности, соотношению наднационального и традиционного в современной российской культуре. В диалоге со студентами и преподавателями института была сделана попытка ответить на вопросы: «Насколько в условиях современной действительности России возможно новое, но в то же время укорененное в национальном характере искусство? «Что движет современными художниками, модельерами и дизайнерами в их творческом поиске?». Студентам показали примеры работ современных мастеров, работающих в рамках промыслов «гжель» и «жостово», резьбы по дереву, гончарного мастерства и других.
В третьей части мероприятия ребятам было предложено принять участие в решении вопросов Этнографической олимпиады «Москва – столица многонациональной России», которую провел ведущий специалист Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ Юрий Юрьевич Юренко. Победители вузовского этапа олимпиады из ГИТР осенью 2021 г. будут приглашены в МПГУ для участия в итоговых мероприятиях проекта.
В связи с ужесточившимися в рамках Института ограничениями по профилактике коронавирусной инфекции большая часть студентов приняли участие в мероприятии в дистанционном формате и решали олимпиаду в мобильном приложении «Этнографическая олимпиада».
Проект «Московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России» в вузах реализуется при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы при научно-методическом сопровождении со стороны Московского педагогического государственного университета. Организация-исполнитель проекта – АНО Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера». Это часть большого ежегодного проекта, реализуемого совместно двумя столичными департаментами – национальной политики, образования и науки. Аудитория участников Московской этнографической олимпиады ежегодно расширяется и становится более разнообразной: школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, родители и другие категории населения столицы.
Весной 2021 года мероприятия Московской этнографической олимпиады в вузах прошли в нескольких столичных и региональных университетах – Московском педагогическом государственном университета (МПГУ), Московском государственном институте культуры (МГИК), Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), Казанском федеральном университете (КФУ). Всего в 2021 году запланировано участие в проекте 11 вузов Москвы и России.
Юрий Юренко, фото – студент ГИТР Иван Якушин
Вестник архивиста — Архивное этнографическое кино как исторический источник
УДК 778.5.03.03.с(09)+778.5ср(092)
DOI 10.28995/2073-0101-2018-3-692-703
И. А. Головнев
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Архивное этнографическое кино как исторический источник
Ivan A. Golovnev
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation
Archival Ethnographic Films as a Historical Source
Аннотация
В статье на основании текстовых и визуальных архивных документов исследуются особенности и информативные качества феномена советского этнографического кино, практически неизученного ни в этнографии, ни в киноведении. Анализируя показательный опыт первопроходцев направления этнокино в СССР, режиссера А. А. Литвинова и исследователя В. К. Арсеньева, автор прослеживает эффективную методологию их научно-кинематографического творчества: от стадии написания сценарных эскизов на основе научных текстов, через длительные полевые киноэкспедиции, до редактирования итоговых киноработ при участии научного консультанта. Выбор хронологических рамок исследования обосновывается тем, что рубеж 1920-х – 1930-х гг. – время развития направления этнографического кино в Советском Союзе, характеризовавшееся не только количественным, но и качественным развитием. За этот период была создана панорама фильмов этнографического содержания о различных народностях многонациональной страны Советов. И наиболее значительные из данных киноработ создавались при участии профессиональных ученых. В частности, результатом со-творчества А. А. Литвинова и В. К. Арсеньева стала серия этнографических киноработ об этнических сообществах Приморья (удэгейцы) и Камчатки (коряки, ламуты), заслуживших признание и широкого зрителя, и научной аудитории. Эти кинодокументы являются одними из первых визуальных свидетельств по этнографии народов Дальнего Востока. С этно-киноведческого ракурса, в статье сделаны выводы: этнографическое кино при соответствующем комплексном подходе, представляет собой особую форму исследовательского познания; итоговый фильм, как «документ» своего времени, при должной аналитической критике, является информативным историческим / этнографическим источником. Изучение малоисследованного пласта архивных этнографических фильмов представляет собой актуальное направление для широкого спектра гуманитарных изысканий, и его результаты заслуживают введения в активный научный оборот. А опыт их создателей представляет ценный практический пример для деятельности современных этнокинематографистов.
Abstract
The article draws on text and visual archival documents to study nature and informative value of Soviet ethnographic films. Ethnographic cinema is a phenomenon almost unstudied by both ethnography and cinematology. Analyzing an illustrative experience of film director A. A. Litvinov and researcher V. K. Arsenyev, who were at tip of the spear in Soviet ethnocinema, the author investigates effective methodology of their scientific and cinematographic work: from script based on scientific texts to lengthy ethnographic filming expeditions to editing of the films assisted by scientific advisors. The choice of the chronological framework rests on the fact that late 1920s – early 1930s was a time of growth for ethnographic filming in the Soviet Union, characterized by both quantity and quality of ethnographic films. It was a time when a panorama of ethnographic films about different peoples of the multinational Soviet country was created, in production of the most significant of these professional scientists were involved. A series of ethnographic films about ethnic groups of Primorye (the Udege), Kamchatka (the Koryaks, the Lamuts), and Chukotka (the Chukchi), a collaboration of A. A. Litvinov and V.K. Arsenyev, received recognition from the public, and also from the scientific community. These film documents are among first photovisual records on the ethnography of the peoples of the Far East. From the point of view of ethnographic cinematology, the article concludes that ethnographic films, if approached scientifically, become a form of research, film as a ‘document’ of the period providing historical and ethnographic data. Little-studied archival ethnographic films are a promising area of research, well deserving being included into the scholarship. Their creators’ experience is of practical interest for modern ethno-cinematographers.
Ключевые слова
Архивное этнографическое кино, исторический источник, визуальная антропология, история малочисленных народов СССР.
Keywords
Archival ethnographic films, historical source, visual anthropology, history of the small-numbered peoples of the USSR.
В отечественной научной традиции исторические источники принято классифицировать по различным параметрам: типам, родам, видам и прочим позициям. В рамках существующих классификаций прослеживается систематическая условность по отношению к малоизученной категории этнографического кино: оно относится, с одной стороны, к категории этнографических источников, с другой — кино-фото-фонодокументов; оказывается в группе изобразительных и звуковых источников – одновременно. Данное обстоятельство является отражением межвидовой природы этнографического кино – особой формы народоописания, параметры которой определяются наукой и искусством. Существуя на стыке этнографии и кинематографии, этнокино как средство познания представляет собой комплексный синтетический язык, и в результате является многослойным исследовательским источником. Поэтому, как верно заметил В. М. Магидов, этнографические фильмы и смежные с ними аудио-визуальные источники правомерно выделять в особую категорию – «кино-фото-фоно-документы по визуальной антропологии».
Объектом исследования в настоящей статье являются информативные качества этнографического кино как исторического / этнографического источника, опредмеченные через анализ малоизвестного пласта архивных кинофильмов этнографического содержания. Хронологические рамки данного исследования – рубеж 1920-х – 1930-х гг. – время подъема направления этнографического кино в СССР, когда были сформированы базовые методы создания этнографических фильмов. Следует отметить, что наиболее значительные этнофильмы упомянутого периода снимались при содействии профессиональных ученых: к примеру, В. А. Ерофеев снимал кинокартины о Памире в ходе комплексных исследовательских экспедиций, а О. Ю. Шмидт консультировал В. А. Шнейдерова при создании фильмов об Арктике. Но, пожалуй, наиболее показательным в истории советского этнографического кино был пример долговременного и целенаправленного сотворчества первопроходцев данного направления – режиссера Александра Аркадьевича Литвинова (1898–1977) и исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) – создателей серии ставших классическими кинолент о народностях Дальнего Востока.
Ввиду отсутствия исследовательских монографий по истории советского этнографического кино, основную источниковую базу данного исследования составили архивные материалы. Именно уникальные личные архивы – полевые дневники и фотографии, личная и деловая переписка, документация и рукописи неопубликованных статей А. А. Литвинова и В. К. Арсеньева – дали возможность разработать ретроспективные вопросы исследования.
Как видно, с одной стороны, разноплановая теоретическая, сценарная и консультационная поддержка профессионалов научного цеха обеспечивала высокую степень этнографичности фильмов. С другой стороны – за необходимую кинематографичность кинопроизведений отвечали специалисты группы «Совкино». Камчатская киноэкспедиция продолжалась полтора года, в течение которых закаленный еще опытом съемок этнографических фильмов в Уссурийской тайге тандем – режиссер А. А. Литвинов и оператор П. М. Мершин – проводили долговременные наблюдения, «погружаясь» в снимаемые культуры, и вполне реализуя тем самым опыт этнографа-исследователя.
На примере творчества А. А. Литвинова отчетливо видно, что деятельность этно-кинематографиста вполне можно сопоставить с работой этнографа, творчество кинорежиссера за монтажным столом – с редактированием текста в кабинете исследователя, а итоговый этнографический фильм – с научной монографией. Этнограф-полевик входит во взаимодействие с культурой как процессом, измеряемым «в единицах действия». Кинематографист-исследователь в поле также движется от наблюдения к записи материала. Общей целью этнографического контакта исследователя-кинодокументалиста с информатором является создание источника, где важна максимально точная ретрансляция информации. В этой связи, этнографическое кино можно охарактеризовать как эффективную форму исследовательского познания. А итоговые фильмы – как аудиовизуальные источники, которые обладают уникальными качествами с точки зрения документальности, поскольку позволяют зафиксировать не только фактическое содержание этнографического диалога, но и его образно-эмоциональный контекст. Вышеприведенный анализ архивного этнокино наглядно показывает необходимость введения в научный оборот целого пласта малоизученных информативных материалов – этнографических фильмов периода конца 1920-х – начала 1930-х гг. – поскольку данная этнокинолетопись, как «документ» своего времени, при должной исследовательской критике, связанной с изучением контекста их создания в советский период, является полноценным историческим / этнографическим источником.
Список литературы
Арсеньев, В. К. Лесные люди – удэхейцы. — Владивосток: Книжное дело, 1926. – 50 c.
Головнев, А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: Волот, 2009. – 496 с.
Головнев, И. А. «Лесные люди» – феномен советского этнографического кино // Этнографическое обозрение. — М.: Наука, 2016. – № 2. – С. 81–96.
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. — М.: Наука, 1987. – 440 c.
Литвинов, А. А. В Уссурийской тайге. Записки кинорежиссера // Уральский современник. – Свердловск: Свердловское областное государственное изд-во, 1955. – № 1. – C. 116–159.
Магидов, В. М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М.: РГГУ, 2005. – 254 с.
References
ARSEN’EV, V. K. Lesnye lyudi – udekheitsy [Forest people – the Udehe. In Russ.]. Vladivostok, Knizhnoe delo publ., 1926, 50 p.
GOLOVNEV, A. V. Antropologiya dvizheniya (drevnosti Severnoi Evrazii) [Anthropology of the movement (antiquity of Northern Eurasia). In Russ.]. Ekaterinburg, Volot publ., 2009, 496 p.
GOLOVNEV, I. A. “Lesnye lyudi” – fenomen sovetskogo etnograficheskogo kino [‘Forest people’ — phenomenon of the Soviet ethnographic films. In Russ.]. IN: Etnograficheskoe obozrenie, 2016, no. 2, pp. 81–96.
KOVAL’CHENCKO, I. D. Metody istoricheskogo issledovaniya [Methods of historical research. In Russ.]. Moscow, Nauka publ., 1987, 440 p.
LITVINOV, A. A. V Ussuriiskoi taige. Zapiski kinorezhissera [In the Ussuriysk taiga: The film director’s notes. In Russ.]. IN: Ural’skii sovremennik. 1955, no. 1, pp. 116–159.
MAGIDOV, V. M. Kinofotofonodokumenty v kontekste istoricheskogo znaniya [Film, photo, and phono documents in the context of historical knowledge. In Russ.]. Moscow, RGGU publ., 2005, 254 p.
Сведения об авторах
Головнев Иван Андреевич, кандидат исторических наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, научный сотрудник, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 8-922-600-46-41,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
About author
Golovnev Ivan Andreevich, PhD in History, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian Academy of Sciences, researcher, St. Petersburg, Russian Federation, +7-922-600-46-41,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Сведения о грантах
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-01-00141, «Антропология движения: теоретический и научно-практический потенциал».
Grant information
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) as part of project no. 17-01-00141 ‘Anthropology of the movement: Theoretical and scientific and practical potential.’
В редакцию статья поступила 12.03.2018 г., опубликована:
Головнев, И. А. Архивное этнографическое кино как исторический источник // Вестник архивиста. – 2018. — № 3. – С. 692-703. doi 10.28995/2073-0101-2018-3-692-703
Submitted 12.03.2018, published:
GOLOVNEV, I. A. Arkhivnoe etnograficheskoe kino kak istoricheskii istochnik [Archival Ethnographic Films as a Historical Source. In Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 3, pp. 692-703. doi 10.28995/2073-0101-2018-3-692-703
Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь.
5 новаторских документальных фильмов | Журнал Esquire.ru
Современное документальное кино, по крайней мере на западном кинорынке, уверенными шагами достигает уровня художественного ― пока что не по бюджетам, но совершенно точно по зрелищности и охватам. Крупные платформы стали теплее относиться к документальному жанру после его прорыва на Netflix ― и теперь даже игровое кино можно снимать по принципу документального. Например, фильм «Земля кочевников», получивший премию «Оскар» в этом году, был снят с участием непрофессиональных актеров, которые в кадре делились своими настоящими историями. Esquire выбрал пять фильмов, выход которых ознаменовал начало новой эпохи в развитии жанра документального кино.
«Нанук с Севера» / Nanook of the North (1922)
Документальный фильм Роберта Флаэрти ― это и этнографическое исследование, и поэтическая зарисовка о жизни семьи на Крайнем Севере. Формат фильма стал революционным ― до этого фиксация «сырой» реальности не облекалась в художественную форму. Кроме того, Флаэрти удалось отойти от колонизаторского взгляда ― какой был характерен для этнографического кино в начале XX века.
Флаэрти до этого не имел отношения к кино ― он был старателем на побережье Гудзонова залива. Ему были интересны этнографические исследования и жизнь инуитов, поэтому после курсов по работе с камерой он отправился в экспедицию. Однако все отснятые материалы сгорели, и он поехал во вторую экспедицию ― ее итогом стал фильм «Нанук с Севера».
В фильме в суровых северных условиях Нанук и его семья охотятся, сражаются с холодом и ветрами. Флаэрти превратил наблюдение в эпичную сагу о силе духа и стремлении человека отвоевать у природы право на жизнь. Однако на самом деле режиссер всех немножко обманул: в действительности герой фильма Нанук вовсе не Нанук, а Аллакариаллак, а его жены в фильме ― не его жены, а еще герой специально для съемок жил в первобытных условиях, метал гарпуны и строил иглу. Дело в том, что к этому времени инуиты уже жили вполне цивилизованно, освоили оружие и знали, что такое граммофон ― сцена в фильме, где Нанук удивляется граммофону, была постановочной. Специально для съемок «внутри» Флаэрти создал помещение в два раз больше обычного жилья Нанука ― иначе в крохотной избе без света было бы просто невозможно снимать бытовые эпизоды. В соседней избе, переработанной под лабораторию, режиссер проявлял отснятый материал и делал предварительный монтаж. Нанук вместе с семьей сразу же отсматривали смонтированные сцены.
В защиту Флаэрти стоит отметить, что изначально режиссер не планировал снимать документальный фильм, в начале XX века этот феномен лишь зарождался. Тем не менее художественная форма, с которой работал режиссер, сегодня используется документалистами во всем мире.
«Человек с киноаппаратом» (1929 год)
«Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова сегодня называют величайшим документальным фильмом, визуальным манифестом и учебником операторского и монтажного мастерства. Действительно, почти все известные сегодня приемы вроде стоп- и слоу-моушена, рапида, полиэкрана и клиповых склеек были использованы монтажером фильма — женой Вертова Елизаветой Свиловой.
По сути, этот документальный фильм ― «городская симфония», в нем использованы съемки городской жизни в Киеве, Одессе и Москве. Бессюжетность и экспериментальность съемок должны были выразить отказ Вертова от наследия игрового кино и манифестировать новый, универсальный язык кино: больше никаких постановок, профессиональных актеров, павильонов и сценариев. По Вертову киноаппарат совершенен, в отличие от человеческого глаза, он объективен, а монтаж способен управлять временем и пространством. Авторы даже отказались от звукового сопровождения ― Вертов настаивал, чтобы фильм показывали в кинотеатрах без музыки. По его мнению, монтаж создавал собственную ритмичную музыку.
Вертов со своей командой создал революционный проект не только благодаря визуальным открытиям ― по сути, именно в «Человеке с киноаппаратом» были заложены ключевые конвенции документального жанра. Камера превращается в отстраненный объект, она лишь фиксирует повседневность: ритмичность города, будничные дела горожан, посетители загса, роды, рынок, автобусная остановка ― все становится сюжетом. Однако даже Вертов не устоял перед соблазном любого документалиста и все же использовал постановочные кадры ― игровую сцену с девушкой, которая просыпается и собирается на работу.
«Земля без хлеба» / Las Hurdes (1933)
В 1932 году уже признанный мастер сюрреализма в кино Луис Бунюэль вместе со съемочной группой отправился в область Лас-Урдес ― чтобы снять документальный фильм об упадке, нищете, голоде и царящей повсюду в окрестностях смерти. Связь с внешним миром в виде дороги до ближайшего города у этого поселения появилась только в 1922 году ― за десять лет до начала съемок фильма.
С самого начала истории режиссер использует закадровый голос ― такой подход позволяет сначала узнать нечто шокирующее, затем подается какой-то нейтральный факт, благодаря которому все кажется не таким безнадежным, а затем визуальный ряд просто молотом по голове обрушивает на зрителя реальность. Молодежь, которая отрывает головы петухам, дети и свиньи пьют воду из одной речки ― и в ней же стирается белье, страдающие от недоедания и, как следствие, от зоба люди и крупный план мертвой девочки, чей гроб еще несколько дней будут нести и ближайшего кладбища.
Казалось бы, тот факт, что некоторые кадры были постановочными, должен немного успокоить зрителя. Но для сцены, где козочка падает со скалы, животное было застрелено ― в кадре даже виден дым от выстрела. А в сцене, где пчелы нападают на осла, бедное больное животное обмазали медом. Что же, хотя бы младенец, который в фильме мертв, на самом деле просто спящая девочка.
«Обыкновенный фашизм» (1965)
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма ― это революционное использование хроники и исторических кадров для выстраивания нарратива и сюжетной линии. Точнее, до него этим же занималась гениальный монтажер Эсфирь Шуб, которая могла перемонтировать любую зарубежную мелодраму в агитационный ролик. Ромм же взял немецкие архивы, европейскую кинохронику предвоенных лет, материалы из киноархивов министерства пропаганды гитлеровской Германии, послевоенные архивы антифашистских организаций, фотографии из личного архива Гитлера и архивные любительские снимки бывших военнослужащих вермахта и СС ― и выстроил на их основе эпохальное исследование об истории и идеологии фашизма.
Ромм использует все доступные монтажные средства и откровенно хулиганит: например, кадр поцелуя партийного функционера с заводчиком Круппом он с помощью обратного воспроизведения повторяет несколько раз, часто использует стоп-кадры с лицами нацистских лидеров. Искусно перемонтированную хронику Ромм сочетает с насмешливым закадровым голосом ― своим собственным (по воспоминаниям коллег режиссера, диктора искали так долго, что Ромму предложили озвучить публицистическую речь самостоятельно).
Сегодня использование архивных и хроникальных кадров уместно в документальных фильмах, которые посвящены событиям прошлого, но экспериментальный перемонтаж уже в 1965 году благодаря Ромму подарил жанру пространство для развития новых конвенций. Сегодня обработка таких материалов и выстраивание из них особой драматургии применяются не только в экспериментальном, но и в массовом направлении.
«Старше на 10 минут» / Vecāks par 10 minūtēm (1978)
Короткометражный почти десятиминутный документальный фильм советского и латвийского режиссера Герца Франка не называют экспериментальным ― и очень зря. Съемки этого фильма ― чистый эксперимент: Франк одним кадром снимал аудиторию детей, которые смотрят кукольный спектакль. Зрители фильма буквально следят за другими зрителями, а потом камера концентрируется на лице одного мальчика. Он смотрит в сторону камеры, за которой, как мы понимаем по его реакции, происходит что-то потрясающее.
Необычайное новаторство Франка в том, что он первым развернул камеру к зрителю, изменил само понятие «киноглаз», если говорить терминологией Дзиги Вертова. За десять минут фильма вы увидели с десяток разных историй, отраженных на лице мальчика. Но мы никогда не узнаем, о чем он думал, что его напугало или развеселило. Мы даже не знаем, что за спектакль смотрят дети, ― и здесь снова открывается широкое пространство для интерпретации. В фильме также нет монтажных склеек, и мы буквально проживаем эти десять минут вместе с этим мальчиком ― зритель чувствует время так же, как этот ребенок, который после окончания фильма станет на десять минут старше.
Среди документалистов и видеохудожников фильм стал очень популярным ― его неоднократно цитировали. В 2002 году режиссер Вим Вендерс спродюсировал кинопроект ― два альманаха: «Труба» и «Виолончель». В них режиссеры Вернер Херцог, Спайк Ли, Аки Каурисмяки, Джим Джармуш, Бернардо Бертолуччи, Клер Дени, Жан-Люк Годар и другие сняли свои короткометражные работы-новеллы о том, как каждый из них понимает время. Кажется, следующий шаг ― снять лица зрителей, которые смотрят в зале фильм «На десять минут старше».
Читайте также:
Преодоление себя, победы и поражения: 8 отличных документальных фильмов про спорт
Лучшие документальные фильмы 2020, которые помогут вам лучше понять этот мир
Транскультурное сотрудничество в исследованиях и кинопроизводстве
21
Выразительные импровизации относятся к возможности раскрытия
чувств, мечтаний и фантазий главных героев. Анонимность, обеспечиваемая их активными персонажами, позволяет главным героям
раскрывать эмоции, секреты или другие интимные вопросы, которые
трудно выразить иначе. Описательные импровизации, на
, с другой стороны, служат для иллюстрации или демонстрации определенных ак-
вещей, что может быть особенно полезно, если объект
трудно представить с помощью других музыкальных подходов, например, в
случай незаконных или социально неприемлемых действий.Однако они,
, применяются не просто по необходимости, «потому что нет
другого способа сказать это… [но потому что] этноукция могла бы быть
лучшим способом сказать это с этнографической точки зрения. »(Sjö-
berg 2009: 8; курсив в оригинале). Антропологические знания
генерируются в процессе создания фильма, так же как
в традиционном этнографическом производстве:
В отличие от современных документальных драматических фильмов, где большая часть
исследований проводится до съемок и превращается в
в сценария, исследования в области этно-
Руш продолжались во время съемок… Проект
тивная импровизация, таким образом, стоит в самом центре
исследовательского процесса в этнографии, так как протаг-
онисты не являются просто воспроизводят события, но на самом деле
выражают частично подсознательное знание этно-
графической ценности через их импровизации.(Sjöberg
2009: 7).
Вдохновленный работами Жана Руша, я использовал реконструкцию
и импровизированную актерскую игру в своем кино. Основываясь на
их общих переживаниях, воображениях, мечтах и фантазиях,
, а также на местных рассказах и всевозможных моделях из диаманта
, они были чрезвычайно популярны среди главных героев
и местной публики. Я хочу утверждать, что введение
как функционального слоя не только влияет на главных героев, но также меняет отношения между главными героями и создателями фильмов: они становятся игроками одной и той же (Рушианской) игры
.
вместо того, чтобы быть привязанными к более жестким иерархическим отношениям между наблюдателем и наблюдаемым, что характерно для
более традиционного документального кино.
Идеи передачи фотоаппарата (Rouch 2003), производителей пленок
, предоставивших себя в распоряжение своих субъектов
(MacDougall 1995) и другие формы совместной работы над фильмами-
(Elder 1995) были чрезвычайно важны. популярный в области
этнографических фильмов начала 1970-х годов. Тем не менее,
ни один из антропологических создателей фильмов на самом деле не отказался от поддержки и не уступил практические аспекты кинопроизводства своим
главным героям.4 Это несоответствие было устранено несколько
лет спустя, в конце 1980-х, когда коренные народы около
мира начали производить свои собственные фильмы, телевизионные программы,
грамма и другие медиа-формы, часто поддерживаемые антро-
полологов. В тот же период авторитет антропологических репрезентаций, и особенно этнографических фильмов, был подвергнут сомнению как внутри, так и за пределами Зельда (Клиффорд
4 Заметным исключением
является «Проект навахо»
, проведенная Сол Уорт
и Джоном Адэром (1972),
, которые обучили своих
участников навахо снимать
16-миллиметровых фильмов.Однако они
взяли эти фильмы как данные
для анализа в порядке
, чтобы выяснить, существует ли
отличительный способ навахо
видеть мир, а также
, чтобы сделать более общие выводы о
. их
восприятие и культура.
Этнографический фильм — Антропология — Oxford Bibliographies
Введение
Этнографический фильм — это визуальное проявление антропологической практики, организованной в линейные и движущиеся медиа.Хотя термин «этнографический фильм» больше не создается на реальной целлулоидной пленке, он используется для производства на различных магнитных лентах и цифровых носителях. Хотя форма и содержание этнографического фильма подвергались сомнению с момента его создания, его часто синонимично связывают с визуальной антропологией как определяющей практикой. И поэтому, возможно, никакая другая практика или концепция в лексиконе визуальной антропологии не вызывает более серьезных возражений, чем создание этнографических фильмов. Это особенно верно, поскольку ряд нелинейных новых медиа-форм и способов распространения Интернета становятся преобладающими в 21 веке и открывают возможности для большего числа людей использовать их.Понятие этнографического фильма связано с рядом вопросов. Кто считается этнографическим кинорежиссером и какими методами это практикуется в более широкой области антропологии? Что на самом деле считается этнографическим фильмом и по каким стандартам он оценивается? Является ли фильм или видео законным методологическим инструментом в полевых антропологических исследованиях, и если да, то обладает ли они способностью передавать или содержать этнографические знания так же, как текстовые отчеты? Размышляя о включении или оценке медиа в жанр этнографического фильма, часто сталкиваешься с дилеммой того, какие конкретные критерии, такие как предмет, практика, намерение и восприятие аудиторией, определяют этнографический фильм.Во всем мире существует множество академических и учебных программ, посвященных производству и теории этнографических фильмов, которые предлагают ученую степень и сертификаты. Программа «Антропология визуальной коммуникации» Университета Темпл и Центр визуальной антропологии Университета Южной Калифорнии являются основополагающими программами в Соединенных Штатах, которые обеспечивают академическую и производственную подготовку студентов и выпускников в области этнографического кино и визуальной антропологии. Центр визуальной антропологии Манчестерского университета — еще одна историческая программа в Англии, в рамках которой готовится большое количество опытных режиссеров документальных и этнографических фильмов.Программа получения аттестата выпускника Нью-Йоркского университета по культуре и средствам массовой информации полностью интегрирована в программу докторантуры по антропологии. Программа, которая является междисциплинарной с изучением кино и киношколой Нью-Йоркского университета, подчеркивает три аспекта современной работы в области культуры и СМИ: теоретические и исторические подходы к этнографическому и экспериментальному документальному кино, а также к постколониальным и местным СМИ; этнографические исследования медийных практик во всем мире; и производство этнографических фильмов / СМИ.Лаборатория сенсорной этнографии Гарвардского университета предлагает докторскую степень по медиа-антропологии и является филиалом Департамента визуальных и экологических исследований, предоставляя одни из самых новаторских работ в области этнографии и визуальных методов. Визуальный антрополог Питер Биелла руководит программой визуальной антропологии в Государственном университете Сан-Франциско. По мере роста популярности этнографических фильмов и расширения доступа к аудиовизуальным технологиям количество курсов для студентов, посвященных производству этнографических фильмов, продолжает расти вместе с использованием медиа-технологий профессиональными антропологами.
Определения
Термин и концептуальное значение этнографического фильма часто используются как синонимы с понятием визуальной антропологии, как видно из работы Хокингса 2003, в которой представлен широкий анализ множества точек зрения. Этнографический фильм тесно связан с документальным фильмом как по своей истории, так и по форме. Некоторые пытались различить эти два фильма, классифицируя фильмы как «этнографический документальный фильм» или «антропологически ориентированное кино». Самая популярная концепция этнографического фильма заключается в том, что это фильм о любой незападной культуре, который часто считается экзотическим, как это было критически отмечено в Ruby 1996.Ruby 2000 и Ruby 2005 выступают за строгое определение этнографического фильма, ограниченное производством людей с антропологической подготовкой, предпочтительно на профессиональном уровне в сочетании с опытом работы в СМИ. Heider 2006, с более широкой точки зрения, утверждает, что любой фильм можно считать этнографическим, обеспечивая при этом набор критериев оценки этнографического фильма как для исследований, так и для педагогики. Большинство текстов, посвященных этнографическому фильму, как правило, сосредоточено на сериях канонических этнографических кинематографистов, определяющих жанр.Используя параметры Руби, многие фильмы, в основном принимаемые как этнографические из-за их простого присутствия на фестивалях этнографических фильмов или обсуждаемые в литературе этнографических фильмов, будут исключены из любого определения этнографического фильма. Концепция этнографического фильма Хайдера будет включать в себя множество средств массовой информации, созданных без антропологического намерения, но служащих для приукрашивания этнографических знаний. Возможно, несколько иронично, но параметры того, что на самом деле представляет собой этнографический фильм, не видны при применении методов, а часто продиктованы устоявшимся жанром классических этнографических фильмов, снятых горсткой людей, которые не обязательно являются антропологами по профессии.Как обсуждалось в Marcus 2006, фильм Nanook of the North не считался этнографическим режиссером Робертом Флаэрти, хотя многие часто называли его первым документальным и этнографическим фильмом. Его часто считают этнографическим, прежде всего из-за того, что Флаэрти сосредоточил внимание на незападной культуре, которая долгое время считалась основным направлением антропологии, а также из-за заявленного на протяжении всего фильма намерения изобразить «реальную жизнь» инуитов. Руби 1981 исследует, как, хотя Флаэрти не был антропологом и, следовательно, не придерживался этнографической методологии в своей практике, его часто прославляют тем фактом, что он провел так много времени с инуитами и попытался отразить точку зрения коренных народов, если не личные отношения, в построении повествования фильма, работая с его главным информатором на протяжении всего процесса создания фильма.Вортон и Руби 2011 предлагают исчерпывающее определение этнографического фильма, основанное на критическом историческом подходе к жанру.
Вортон, Мэтью и Джей Руби. 2011. Этнографический фильм. В Сделано, чтобы быть увиденным: Перспективы истории визуальной антропологии . Под редакцией Маркуса Бэнкса и Джея Руби. Чикаго: Univ. Чикаго Пресс.
DOI: 10.7208 / chicago / 9780226036632.001.0001
Критический исторический подход к истории этнографического кино, который пытается представить различные фильмы как примеры отличительной области визуального исследования антропологической дисциплины как части более широкого замысла очерки в отредактированном томе.
Хайдер, Карл. 2006. Этнографический фильм . Остин: Univ. Техас Пресс.
Первоначально опубликовано в 1976 г. вместе с Hockings Принципы визуальной антропологии , Этнографический фильм считается одним из канонических ранних текстов о взаимосвязи между этнографией и кинопроизводством. Хайдер создает широкий набор критериев оценки как для этнографического кинопроизводства, так и для определения различных фильмов как этнографических для исследовательских и педагогических целей.
Хокингс, Пол. 2003. Принципы визуальной антропологии . Берлин: Де Грюйтер.
Книга, впервые опубликованная в 1975 году, считается классикой в области визуальной антропологии. Он содержит несколько эссе, в том числе введение Маргарет Мид, и до сих пор широко используется в качестве учебника в области визуальной антропологии. В 2003 году он был пересмотрен, и в него были включены дополнительные эссе и дополнения к оригинальным эссе в отредактированном томе. Пол Хокингс также является редактором журнала Visual Anthropology .
Маркус, Алан. 2006. Нанук с севера как первичная драма. Визуальная антропология 19.3–4: 201–222.
DOI: 10.1080 / 08949460600656543
Автор, как и многие другие, пересматривает классический фильм «Северный Нанук » режиссера Роберта Флаэрти, чтобы рассмотреть его место в истории документального и этнографического кино, уделяя особое внимание драматическим аспектам повествования. новый жанр. Статья уникальна своими набегами на поведенческую психологию и культурную географию.
Руби, Джей. 1981. Пересмотр ранней карьеры Роберта Дж. Флаэрти. Ежеквартальный обзор киноведения 5.4: 431–457.
DOI: 10.1080 / 10509208009361064
Исчерпывающий обзор карьеры Роберта Флаэрти, укрепляющий репутацию фильма Северный Нанук как предшественника документального и этнографического кино. Руби обсуждает различные контекстные вопросы, связанные с производством фильма, включая личную жизнь Флаэрти и распространение фильма.
Руби, Джей. 1996. Визуальная антропология. В Энциклопедия культурной антропологии . Vol. 4. Под редакцией Дэвида Левинсона и Мелвина Эмбера, 1345–1351. Нью-Йорк: Генри Холт.
Ruby предлагает краткую и емкую энциклопедическую статью по истории визуальной антропологии с разделом, посвященным концепции этнографического фильма. Несмотря на краткость, Руби может дать историческую критическую оценку этнографическому фильму.
Руби, Джей.2000. Изображение культурных исследований кино и антропологии . Чикаго: Univ. Чикаго Пресс.
Тридцатилетняя кульминация различных мыслей и критических подходов к визуальной антропологии и практике этнографического кино одним из основоположников этой области. Руби приводит доводы в пользу набора критериев, позволяющих рассматривать визуальную антропологию и этнографический фильм как теоретически обоснованное научное начинание, чтобы укрепить свои позиции в антропологии в целом.
Руби, Джей.2005. Последние двадцать лет визуальной антропологии: критический обзор. Визуальные исследования 20.2: 159–170.
DOI: 10.1080 / 14725860500244027
Одна из нескольких кратких и емких оценок визуальной антропологии и практики этнографического кинопроизводства одним из ведущих деятелей в этой области.
к началу
Пользователи без подписки не могут видеть полный контент на
эта страница.Пожалуйста, подпишитесь или войдите.
Как подписаться
Oxford Bibliographies Online доступен по подписке и постоянному доступу к учреждениям. Чтобы получить дополнительную информацию или связаться с торговым представителем Оксфорда, щелкните здесь.
Перейти к другим статьям:
Статья
.
Вверх
Африка, Антропология
Старение
сельское хозяйство
Заповедники животных
Нервная анорексия
Антропоцен
Антропологический активизм и визуальная этнография
Антропология и теология
Антропология ислама
Антропология Курдистана
Антропология чувств
Антрозоология
Античность, этнография в
Прикладная антропология
Археоботаника
Археологическое образование
Археология
Археология и музеи
Археология и политическая эволюция
Археология и раса
Археология и тело
Археология, Глобальный
Археология, Историческое
Археология, Коренные народы
Археология детства
Археология чувств
Архивы
Искусство / Эстетика
Автоэтнография
Бахтин Михаил
Басс, Уильям М.
Красота
Вера
Бенедикт, Рут
Бинфорд, Льюис
Биоархеология
Биокультурная антропология
Биоэтика
Биологическая и физическая антропология
Биологическое гражданство
Боас, Франц
Костная гистология
Бюрократия
Деловая антропология
Капитализм
Грузовые культы
Карибский бассейн
Каста
Чарльз Сандерс Пирс и антропологическая теория
Детские исследования
Христианство, антропология
Гражданство
Клинические испытания
Кобб, Уильям Монтегю
Переключение кода и многоязычие
Когнитивная антропология
Коул, Джоннетта
Колониализм
Сырьевые товары
Консьюмеризм
Презентация и интерпретация культурного наследия
Культурный материализм
Культурный релятивизм
Управление культурными ресурсами
Культура
Культура и личность
Культура, Популярное
Кураторство
Кибер-археология
Далитские исследования
Танцевальная этнография
де Хеуш, Люк
Выход
Дизайн
Дизайн, антропология и
Диаспора
Цифровая антропология
Исследования инвалидности и глухих и антропология
Дуглас, Мэри
Дрейк, св.Clair
Сновидение
Дюркгейм и антропология религии
Экономическая антропология
Внедренные / виртуальные среды
Воплощение
Эмоции, антропология
Экологическая антропология
Экологическая справедливость и коренное население
Этика
Этноархеология
Этноцентризм
Этнографическая документальная продукция
Этнографические фильмы из Ирана
Этнография
Этнографические приложения и игры
Этноистория и историческая этнография
Этномузыкология
Этнонаука
Европа
Эванс-Причард, Э.Э.
Эволюция, Культурный
Эволюционная когнитивная археология
Эволюционная теория
Экспериментальная археология
Федеральный закон Индии
Феминистская антропология
Фильм, этнографический
Фольклор
Еда
Судебная антропология
Франкофония
Фрейзер, сэр Джеймс Джордж
Гирц, Клиффорд
Пол
Пол и религия
Поток генов
Генетика
Геноцид
ГИС и археология
Глобальное здоровье
Глобализация
Глюкман, Макс
Графическая антропология
Трава
Исцеление и религия
Здоровье и социальная стратификация
Политика здравоохранения, Антропология
Язык наследия
ВИЧ / СПИД
Дом-музеи
Адаптивность человека
Эволюция человека
Права человека
Фильмы о правах человека
Гуманистическая антропология
Херстон, Зора Нил
Личность
Политика идентичности
Коренное происхождение
Промышленная археология
Учреждения
Интерпретативная антропология
Интертекстуальность и интердискурсивность
Родство
Лаборатории
Язык и эмоции
Язык и право
Язык и СМИ
Язык и раса
Язык и городское место
Языковой контакт и его социокультурные контексты, Антрополь…
Языковая идеология
Языковая социализация
Лики, Луи
Юридическая антропология
Правовой плюрализм
Либерализм, антропология
Лингвистическая антропология
Лингвистическая относительность
Лингвистика, историческое
Грамотность
Литературная антропология
Леви-Стросс, Клод
Магия
Малиновский, Бронислав
Маргарет Мид, Грегори Бейтсон и визуальная антропология
Морская археология
Свадьба
Материальная культура
Математическая антропология
Матриархальные исследования
Мид, Маргарет
Медиа-антропология
Медицинская антропология
Медицинские технологии и техника
Средиземноморье
объем памяти
Мендель, Грегор
Психическое здоровье и болезни
Мезоамериканская археология
Мексиканская миграция в США
Миграция
Милитаризм, антропология и
Миссия
Мобильность
Современность
Морган, Льюис Генри
Многовидовая этнография
Музей антропологии
Музейное образование
Музейные исследования
Миф
NAGPRA и репатриация останков коренных американцев а…
Повествование в социокультурных исследованиях языка
Национализм
Нидхэм, Родни
НПО, Антропология
Строительство ниши
Северо-Западное побережье,
Океания, Археология
Палеолитическое искусство
Палеонтология
Исследования производительности
Перформативность
Личность
Перспективизм
Философия музеев
Паломничество
Политическая антропология
Постпроцессная археология
Постсоциализм
Бедность, Культура
Приматология
Примитивизм и раса в этнографическом фильме: деколониальный Re…
Процессная археология
Психолингвистика
Психологическая антропология
Общественная археология
Публичные социокультурные антропологии
Гонка
Религия
Религия и постсоциализм
Религиозное обращение
Репатриация
Репродуктивное и материнское здоровье в антропологии
Репродуктивные технологии
Теория риторической культуры
Сельская антропология
Сахлинс, Маршалл
Сапир, Эдвард
Скандинавия
Научные исследования
Секуляризация
Семиотика
Колониализм поселенцев
Оценка пола
Сексуальность
Шаманизм
Оценка скелетного возраста
Социальная антропология (британская традиция)
Социальные движения
Социализация
Общество визуальной антропологии, История
Социокультурные подходы к антропологии репродукции…
Социолингвистика
Звуковая этнография
Пространство и место
Стабильные изотопы
Стан Брахаге и этнографическая практика
Структурализм
Африка к югу от Сахары, демократия в
Сюрреализм и антропология
Технологическая организация
Туризм
Транс-исследования в антропологии
Транснационализм
Древовидные знакомства
Тернер, Эдит Л.Б.
Тернер, Виктор
Городская антропология
Ценить
Насилие
Виртуальная этнография
Визуальная антропология
Уорфова гипотеза
Уилли, Гордон
Колдовство
Вольф, Эрик Р.
Письменная культура
Молодежная культура
Зора Нил Херстон и визуальная антропология
Вниз
Этнографический и документальный фильм (практический) MA | UCL Антропология
Требования к поступающим
Обычно высшая степень бакалавра второго класса в области социальных наук, искусств, гуманитарных наук или естествознания, полученная в британском университете, или зарубежная квалификация аналогичного стандарта.Будут также рассмотрены более слабые в академическом отношении заявки при условии, что они основаны на опыте в области изобразительного искусства или создания фильмов. Кандидатов с предварительными техническими знаниями в области создания фильмов просят прислать видеопортфолио продолжительностью до 20 минут (рекомендуется ссылка на Vimeo). Кандидатам без видеопортфолио предлагается заполнить фоторепортаж. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по созданию наглядного эссе. Вы можете отправить по почте — не более двадцати фотографий размером 20 x 25 см (8 x 10 дюймов) — или по ссылке на внешний сайт.
Всем отобранным кандидатам будет предложено подать предложение по фильму или видеопроекту — максимум четыре стороны формата А4, напечатанные и через два интервала — чтобы включить: краткое изложение того, о чем фильм; персонажи и другие элементы, важные для повествования и структуры / повествования фильма. (Вы не привержены предложению по окончательному проекту.)
Требования к английскому языку
Если ваше образование не велось на английском языке, вы должны будете продемонстрировать доказательства адекватного уровня владения английским языком.
Уровень английского языка для данной программы: Хороший
Подготовка к магистратуре и предсессионный английский
Подготовительные курсы английского языка UCL предназначены для иностранных студентов, которые хотят учиться в аспирантуре UCL. Курсы развивают ваш академический английский и академические навыки, необходимые для успешной учебы в аспирантуре. Международные подготовительные курсы
Дополнительную информацию можно найти на нашей странице требований к английскому языку.
Иностранные студенты
Информацию для конкретной страны, включая подробности о том, когда представители UCL посещают вашу часть мира, можно получить на веб-сайте иностранных студентов.
Международные кандидаты могут узнать эквивалентную квалификацию для своей страны, выбрав из списка ниже.
Выберите вашу страну:
Выберите countryAfghanistanAlbaniaAlgeriaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaCambodiaCameroonCanadaCaribbean / West IndiesChileChinaColombiaCongo (DR) Коста RicaCroatiaCubaCyprus (греческая и турецкая кипрские общины) Чешский RepublicDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGuatemalaGuyanaHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKuwaitKyrgyzstanLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaltaMauritiusMexicoMoldovaMongoliaMontenegroMoroccoMyanmar (Бирма) NamibiaNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussiaRwandaSaudi ArabiaSenegalSerbia Sierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSouth АфрикаЮжная КореяИспанияШри-ЛанкаСуданСвазиленд / ЭсватиниШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТринидад и ТобагоТунисТурция (включая турецкий сектор Кипра) ТуркменистанУгандаУкраинаОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Забельзамбия3000 США
Международные эквиваленты
В обход: этнографический фильм в тираже
Мелисса Лефковиц и Алия Айман: Мы думали, что нам следует начать
с одним из самых актуальных для нас вопросов, а возможно и для других
людей в комнате, а именно: как бы вы определили
этнографический фильм?
Рэйчел Чанофф: Я никогда не слышала о визуальной антропологии, пока не начала работать на кинофестивале Маргарет Мид.
как один из кураторов.Я работал в Сандэнсе двадцать семь
лет и фестиваль еврейского кино в течение двадцати лет, и я никогда не
думали об этнографическом фильме или о том, что это могло бы быть, потому что, когда мы
курируя фильм, мы в основном ищем истории, которые глубоко погружаются в
опыт или сообщество. С тех пор я узнал, что существует такая
множественность переживаний, связанных термином этнографический фильм . Что делает это одним? Ничего не делает. Я действительно не понимаю, что это значит. Мне так интересно, что все говорят.
Пеги Вейл: Ну, если посмотреть этимологию — этнос
от греческого — это означает людей, а иногда и расу или нацию. Это пришло в
означают разные вещи. В аспирантуре я понимал термин
имею в виду фильмы о людях, сообществе или культуре, но в то время я
не знал, как это связано с академией и какие проблемы
вокруг его репрезентативных практик. Этнографический фильм имеет
преобразованный. Все чаще появляются фильмы людей о собственном
сообщества, поэтому теперь он имеет гораздо более широкое определение, чем раньше.Думаю, его действительно реанимируют и возрождают.
Алиса Апли: Когда я спросил, к чему мне нужно готовиться
в панельной дискуссии мне сказали подумать о том, как мы [Документальный
Образовательные ресурсы] избранные фильмы. На самом деле мы не спрашиваем, есть ли
фильм этнографичен, когда мы его выбираем; Я думаю об этнографическом фильме
больше с точки зрения идентичности организации, потому что это часть
Наша история. Но потом я борюсь с этим определением из-за
вопросы о том, что это значит.Я думаю, что считалось этнографическим
фильм теперь смешался с любым социальным документальным фильмом, потому что
все снимают фильмы о культурах и сообществах.
Пеги Вейл: Мы говорим нашим студентам, что это
может быть разница между этикой и ответственностью. Потому что я
думаю, что существует этика и ответственность перед сообществом или
культура первая — это съемки, которые являются частью того, что раньше было
называется этнографическим фильмом.
Алиса Апли: Мы действительно говорим об отношениях
режиссера сюжетов и того, сколько времени они потратили на создание фильма.Когда я хожу на кинофестивали в поисках фильмов, помимо тех, кто снимает
предположение, что этнографические фильмы должны быть о каком-то экзотическом другом,
есть также предположение, что нас интересуют только
наблюдательные фильмы, которые должны быть такого рода чистыми vérité . А также
это вовсе не критерий, когда мы курируем фильмы. Я нахожу это
критериев является то, насколько глубоко они входят в сообщество или культуру, а также
насколько фильм сосредоточен на вопросе или проблеме. Много
фильмов на фестивалях, которые очень увлекательны, ориентированы на персонажей
документальные фильмы, но на самом деле они ни о чем.Они
очаровательная история причудливой личности, а нас не так уж интересует
что.
Мелисса Лефковиц: Когда вы смотрите фильмы, что стоит
к тебе как то брать не собираешься? Или откуда ты знаешь
чего вы не хотите и как бы это выглядело?
Рэйчел Чанофф: Когда вы программируете много разных
фестивалей, и вы хотите, чтобы программы освещали
миссия того конкретного фестиваля или учреждения, ваш набор критериев
действительно меняется.Есть фильмы, которых мы никогда не увидим за миллион лет.
шоу на фестивале Маргарет Мид. Например, путь героя
то, что нас не интересует. Наблюдения белых говорящих голов
о ситуации мы не будем показывать. Но в разных
контекстах, на разных фестивалях и в разных музеях, где я
работал, это другое.
Алиса Апли: Мы также думаем о том,
фильм можно использовать в классах, о каких дискуссиях идет
провоцировать, и если в этом есть какая-то необходимость.Так, например, фильм
может быть профилем сообщества, но в нем все равно должен быть контент, а некоторые
своего рода критический край.
Фэй Гинзбург: Во время обучения в аспирантуре я получила
летний курс с Жаном Рушем полностью изменил мою жизнь. Его идея
о том, что такое этнографический фильм, было так непохоже на The Last of the Headhunters or
наблюдательные фильмы. Его работы безумные, безумные, вымышленные,
сюрреалистичный и невероятно совместный. Когда я увидел эту работу, я
чувствовал, что да, это то, что я хочу делать.Проблема с термином этнографический фильм
в том, что у него есть все эти другие коннотации. Руш в одном из своих ранних
статьи, рассказывали об этнографическом кино как о служанке
колониализма, и да, это то, чего мы хотели бы избежать здесь, в Нью-Йоркском университете. Так
интеграция работы коренных народов была одной из первых
то, что мы сделали, чтобы смешать это, чтобы показать, что мы пытаемся что-то сделать
разные, пытаясь деколонизировать жанр этнографического кино и смотреть
критически относиться к его истории.
Но также мы пытаемся понять, как мы могли бы участвовать в
совместная работа, глубокая работа, демонстрация культурных миров с
этическая забота и детализация в диалогической манере, а не указание
фотоаппарат, снял фильм и ушел, не показав свою работу
те, с кем мы это сделали. Поэтому мы попытались включить это в
программы и уйти от довольно токсичной истории этнографической
фильм. Я просто чувствовал, что это была попытка освободить практику и
охватите чувство исследования и игры, пригласив широкий круг людей
в разговор.
Toby Lee: Я хочу добавить к этому вопросу с несколько иной точки зрения. Термин этнографический фильм
имеет довольно много валюты за пределами фестиваля этнографических фильмов
схема. На других кинофестивалях, особенно на фестивалях,
В соответствии с миром искусства, термин этнографический ,
не только в мире кино, но и в мире современного искусства, и
это продолжается уже десять-пятнадцать лет.Я согласен со всеми
вы в том смысле, что формы документального производства движущихся изображений настолько
сейчас разнообразны, и существует множество технологий, которые
доступный широкому кругу людей. Так что я думаю, что грань между
является ли что-то этнографическим или нет на данный момент, скорее
стратегический ход, который человек делает, в отличие от строгого определения.
Для меня есть определенные вещи, которые считаются этнографическими и которые
увязать с тем, что такое этнография, как практика помимо движущихся изображений
производство.Обычно это требует времени, ответственности и близости.
Но я думаю, что когда люди называют термин этнографический
описывают их практику с движущимися изображениями, независимо от того, думаем ли мы, что это
заслуженные, я думаю, что то, что они делают, указывает на другой вид
отрасль или производственный контекст. Итак, по той или иной причине они
хотят вырваться из контекста документальной индустрии,
что сейчас в значительной степени превратилось в индустрию. Особенно сейчас с Netflix и
Amazon Prime и все различные способы документальной и научно-популярной литературы
СМИ распространяются, называя себя этнографическим кинорежиссером, я думаю
там есть кое-что, заслуживающее вашего внимания, независимо от того, заслужили вы его или нет.
Алия Айман: Тоби, не могли бы вы рассказать нам о своем опыте в лаборатории сенсорной этнографии Гарвардского университета?
Тоби Ли: Одна из вещей, которая
частью нашего обучения была эта связь с этнографическим
импульс в мире современного искусства, мире кино и в
перекрываются между ними. Это было в то время, когда такие люди, как Педро Коста
ходили на фестивалях, и внезапно он
всеми любимый режиссер, и люди говорили: «Есть что-то
насчет его работы, которая так этнографическая , это как-то медленно.«Там была своего рода столица.
Я думаю, что у многих из нас странные, эдиповы отношения к
программы, в которых мы обучаемся. Я бы сказал, что глубоко
сформированный этим обучением, и что он сообщил не только моему движущемуся изображению
практика, но мое мышление, и мое обучение, и то, что я пишу. Но часть
из того, что меня беспокоит, и что я сейчас пытаюсь
писать о том, как эта связь с миром искусства не
просто эстетический. Тоже экономический.Если не столица
точнее, существует экономия престижа, в которую входит,
который имеет положительные и отрицательные стороны. Это не то, что я хочу
полностью отказаться, потому что я тоже в этом участвую.
Но это то, что является занозой и очень сложный вопрос. Скорее
чем принять или отречься от него, я хочу держать его посередине и
оставаться с этим неудобно.
Алия Айман: Алиса, при чем здесь этнографический кинорынок
как сегодня? В конце концов, это фильмы, которые финансируются,
проданы, отсеиваются, так что поток капитала есть.
Алиса Апли : Наш рынок немного отличается от
у других дистрибьюторов. Наша специальность действительно в ВУЗах. Наш
фильмы — это многие из классических фильмов, которые продолжают вызывать интерес
в университетах, на музейных и ретроспективных показах.
Современные фильмы также показывают на фестивалях и показах в кампусах.
а также в учебных аудиториях. И тогда второстепенным для нас будет сообщество
группы и организации. Иногда у нас есть, знаете ли, фильм о
традиционная практика постройки лодок, и есть люди, которым нравится
строят лодки и хотят показать фильм! Итак, есть такие
странных связей, которые устанавливают люди.Странно и замечательно, правда.
Это наш рынок.
Кроме того, я думаю, что сейчас многое меняется с
потоковое. Изменились модели покупок университетов. Раньше
будь то медиабиблиотекари действительно курировали коллекцию для своих школ
а теперь это как бы повсюду. Многие из этих больших пакетов,
как Канопи,
перешли к роли куратора коллекции из высокого искусства в
образовательные. Я думаю, что есть фильмы, теряющиеся в этом
переход.
Рэйчел Чанофф: Работаю над множеством разных
фестивалей, я общаюсь со многими режиссерами, и когда я даю им
честный совет, я говорю им, что если у вас есть фильм, о котором вы думаете
для Еврейского фестиваля в Нью-Йорке или даже для фильма Маргарет Мид
Festival, не показывайте его на Еврейском кинофестивале перед премьерой.Потому что это сделает ваш фильм «этническим». Люди
часто говорят: «Хорошо, у нас есть предложение от DOC NYC,
и у нас есть предложение от Маргарет Мид. Что бы вы сделали?» У вас есть
чтобы провести вдумчивый разговор об этом, потому что если вы премьера в
на кинофестивале Маргарет Мид он будет отнесен к категории
определенным образом. И вы хотите этого как кинорежиссер? Это будет служить
Вы хорошо? Мы только что провели большое исследование в Сандэнсе по этому поводу, и если вы
разбейте, что режиссер делает за час над созданным им фильмом, вы
путь в отрицательный.Это действительно печально, потому что художники заслуживают
зарабатывают на жизнь своим искусством. И поэтому часто бывает в ущерб, если ваш
фильм продается как этнографический фильм. Это настоящий вызов сломать
из этого гетто в всеобщее распространение. Ты должен думать
тщательно о том, как вы создаете свой фильм или как ваш фильм
обрамлен другими.
Фэй Гинзбург: Я хочу подчеркнуть, что здесь, в Нью-Йоркском университете, по адресу:
по крайней мере, в педагогике и программировании, мы охватываем не только великие
разнообразие подходов к взглядам на культуру и культурные миры, но
множество разных способов, которыми люди по всей земле воспринимают
легкодоступные медиа-технологии, делая их собственными и рассказывая
важные истории.И эта экономика не совсем капиталистическая. Это
также о значении циркулирующих историй и строительства
общественная активистская работа. Мне нравится использовать пример группы, которую я
известны навсегда и много писали и исследовали: Isuma, инуитская производственная компания, которая сделала Atanarjuat: The Fast Runner .
Этот фильм сломал стереотипы местного кино, продемонстрировав его невероятные
способность делать прекрасные работы, которые выставляются на мировой арене и
также имеет значение для сообществ, из которых исходит история.Он выиграл
Камеру д’Ор на Каннском кинофестивале в 2001 году.
длительные театральные релизы здесь, в Соединенных Штатах и в Европе, и
Азия.
Итак, я брал у них интервью и спросил: «Итак, хорошо, как у вас дела?
экономически? » Они сказали: «Отрывок из театрального выпуска воняет. Мы
вообще не видел много денег ». Но они сказали, что они получили, в
Вдобавок к радости от этого все сообщество
участвовал в нем. Это оказало невероятно бодрящий эффект. Просто
довести престиж такого обращения до общества
был огромен.Итак, есть все эти другие формы прибыли, если хотите,
что вышло из этого. Они не заработали денег, но то, что получили
был культурной столицей, чтобы они могли снимать свои следующие фильмы.
Если мы думаем, как антропологи, мы должны избавиться от доминирующего
модели Запада. Одна из вещей, которые мы пытаемся сделать, — это
сделать наше мышление более космополитичным о том, что означает циркуляция, чтобы
деколонизировать это мышление, потому что мы привыкли к тому, что большинство
престижные и доминирующие институты проходят через капиталистические схемы.я
просто хочу подчеркнуть, что есть много других моделей
тиража там.
Мелисса Лефковиц: Интересно подумать о режиссерах.
стратегически решив поместить свои фильмы в этнографический фильм
фестивальный кругооборот. Пеги, с вашим фильмом Gringo Trails мы видим обратное.
Ваш фильм получил распространение как этнографический фильм, хотя вы
не обязательно планировал пометить его как таковой. Ты можешь говорить больше
о жизни вашего фильма?
Пеги Вейл: Давно начал.При этом
время, я подумал, что это будет этнографический взгляд на путешествия,
туристическая культура. Но поскольку все изменилось к тому времени, когда я вернулся в
и закончил в 2013 году, что имело значение с точки зрения
соображения, о которых говорила Рэйчел. Я не отправлял его в DOC
Нью-Йорк, и когда Кинофестиваль Маргарет Мид появился как возможность
и это было принято, я почувствовал, что это имеет гораздо больше смысла, потому что
фильм так привязан к истории антропологии и повествования, и
музеи, путешествия и экспедиции, все вместе
со временем.Я думал, что Мид был идеальным местом для премьеры.
из-за всех этих связей. Но на удивление все не закончилось
переходя к цепи фестиваля этнографических фильмов. Мы сделали еще три
общие кинофестивали, а также фестивали экологических фильмов. Мы сделали экран
в ряде музеев, и я думаю, что связь была установлена.
Мелисса Лефковиц: Вы бы что-нибудь наклеили на свой фильм? Отнесете ли вы его в определенную категорию?
Пеги Вейл: Я говорю документальный.Я никогда не называл это документальным этнографическим фильмом. Но я говорю, что это через призму антропологии.
Фэй Гинзбург: Но, по словам Тоби, теперь можно быть более сексуальным, если называть это этнографическим!
ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ — Список фильмов на MUBI
Визуальная антропология логически исходит из веры в то, что культура проявляется через видимые символы, встроенные в жесты, церемонии, ритуалы и артефакты, расположенные в искусственной и естественной среде.Культура задумана как проявляющаяся в сценариях с сюжетами, в которых задействованы актеры и актрисы, с линиями, костюмами, реквизитом и декорациями. Культурное «я» — это сумма сценариев, в которых человек участвует. Если можно увидеть культуру, исследователи должны иметь возможность использовать аудиовизуальные технологии для записи ее в виде данных, поддающихся анализу и представлению. Хотя истоки визуальной антропологии исторически следует искать в позитивистских предположениях о том, что объективная реальность наблюдаема, большинство современных теоретиков культуры подчеркивают социально сконструированную природу культурной реальности и предварительный характер нашего понимания любой культуры.
Существует очевидная взаимосвязь между предположением, что культура объективно наблюдаема, и широко распространенной верой в нейтральность, прозрачность и объективность аудиовизуальных технологий. С позитивистской точки зрения реальность может быть запечатлена на пленку без ограничений человеческого сознания. Изображения являются безупречным свидетелем и: источником высоконадежных данных. Учитывая эти предположения, логично, что как только технологии стали доступны, антропологи попытались создать с помощью камеры объективные исследовательские данные, которые можно было бы сохранить в архивах и сделать доступными для изучения будущими поколениями.
Современная мысль о природе культурного знания и о том, что фильм может записать, является более предварительным, чем позитивистская теория. В постпозитивном и постмодернистском мире камера ограничена культурой человека, стоящего за аппаратом; то есть фильмы и фотографии всегда связаны с двумя вещами — культурой тех, кто снимается, и культурой тех, кто снимает. В результате просмотра изображений, представляющих идеологию, было высказано предположение, что антропологи используют технологию рефлексивным образом, отчуждая зрителей от любых ложных предположений о надежности изображений, которые они видят, и что визуальные этнографы ищут способы поделиться своим авторитетом. с людьми, которых они учатся.
Концептуально визуальная антропология охватывает все видимые аспекты культуры — от невербальной коммуникации, искусственной среды, ритуалов и церемоний, танцев и искусства до материальной культуры. (Из этого обсуждения исключены различные исследования использования аудиовизуальных технологий в физической антропологии и археологии.) Хотя некоторые визуальные антропологи действительно работают во всех этих областях, в этой области отсутствует традиция общепринятой всеохватывающей теории — антропологии визуального или визуального. живописное общение.Учитывая фрагментарный характер современного теоретизирования, маловероятно, что такая грандиозная теория когда-либо станет общепринятой. Область может быть концептуально обширной, но на практике в визуальной антропологии преобладает интерес к изобразительным средствам массовой информации как средству передачи антропологических знаний, то есть к этнографическим фильмам и фотографиям и, во вторую очередь, к изучению изобразительных проявлений культуры.
Визуальная антропология никогда не была полностью включена в основное русло антропологии.Некоторые антропологи считают, что он в основном занимается аудиовизуальными средствами обучения. Антропологический истеблишмент еще не признал центральную роль средств массовой информации в формировании культурной идентичности во второй половине двадцатого века. Следовательно, визуальные антропологи иногда оказываются вовлеченными в исследования и размышления профессиональных имиджмейкеров и ученых из других дисциплин — визуальной социологии, культурных исследований, теории кино, истории фотографии, танцев и перформанса, а также теории архитектуры, — а не в работе ученых. другие культурные антропологи.
Этнографический фильм — основной интерес и практика визуальных антропологов. Не существует стандартного согласованного определения жанра, и распространено мнение, что это документальный фильм об «экзотических» людях, тем самым расширяя термин «этнографический», чтобы обозначить любое высказывание о культуре. Некоторые ученые утверждают, что все фильмы этнографические.
Литература об этнографическом кино затруднена из-за отсутствия концептуальной структуры, достаточной для того, чтобы позволить антропологам теоретизировать о том, как фильм может быть использован для передачи знаний.Это провал, который отягощает все рассуждения о научно-популярном кино. В результате авторы сконцентрировались на запрете и программных увещаниях, а также на рассказе военных историй о том, как создавался фильм. Другими темами обсуждения были предполагаемые дилеммы между наукой и искусством; вопросы точности, справедливости и объективности; уместность условностей документального реализма; значение фильма в преподавании антропологии; взаимосвязь письменной и визуальной антропологии; сотрудничество между кинематографистами и антропологами, а также создание визуальных текстов на местном уровне.
Следовательно, теоретические исследования ограничиваются спором о том, является ли конкретный фильм объективным, точным, полным или даже этнографическим. С размывом позитивистских основ антропологии и документального кино появляется возможность нового исследования политики и идеологии кинематографической этнографии. Как и документальный фильм, этнографический фильм, кажется, стоит на пороге серьезных теоретических дебатов. Возможно, в результате критики со стороны теоретиков кино, таких как Билл Николс, и проблем, связанных с местными СМИ, визуальные антропологи все больше осознают необходимость более надежной концептуальной основы.
Самые ранние этнографические фильмы — одна кинолента, одноразовые эпизоды человеческого поведения были неотличимы от театральных реалий. Антропологи, как и все остальные, были очарованы этой технологией и ее обещанием предоставить безупречное свидетельство. Феликс-Луи Рено, возможно, первый антрополог, создавший поддающиеся исследованию видеоматериалы, в 1900 году предложил, чтобы все музеи собирали «движущиеся артефакты» человеческого поведения для изучения и выставок. Ученые, исследователи и даже колониальные администраторы производили видеозаписи для исследований и публичного показа.Необработанная технология, незнание оборудования и неопределенность намерений производителей сильно ограничивали его использование.
Параджанов Сергей
В конечном итоге были разработаны правила кинопроизводства, которые, как правило, мешали предполагаемым научным потребностям в данных для исследования. Воспринимаемый конфликт между эстетическими традициями кинопроизводства и научными требованиями позитивизма к исследуемым данным привел к тому, что фильм недостаточно использовался как аналитическая техника.Например, создатели фильмов склонны фрагментировать и воссоздавать действие в синтетические последовательности, которые предполагают временные отношения, иногда противоречащие сфотографированному действию. Некоторые антропологи считают, что с научной точки зрения применимы только кадры, снятые на уровне глаз с минимальным движением камеры и с освещением события в реальном времени.
Считалось, что стратегии, подходящие для художественной литературы, создают барьеры между антропологами и профессионалами кино. Эти наивные предположения о различиях между искусством кино и наукой антропологии постепенно заменяются концепцией кино как культурно связанного общения, которое можно использовать в различных дискурсах.Отсутствие метода извлечения поддающихся исследованию данных о культурном поведении из видеозаписи по-прежнему препятствует использованию камеры в качестве инструмента исследования.
В 1930-х годах Мид и Бейтсон расширили идеи Реньо. Результатом их полевых исследований стали такие опубликованные фильмы, как «Купание младенцев в трех культурах» (1941), которые были разработаны, чтобы сделать их данные доступными для других ученых. Традиция группового исследования поведения на пленке, которую они отстаивали, продолжается хореометрическим исследованием танца как культурного поведения Алана Ломакса.В то время как Рэй Бердвистелл (1970) и Эдвард Холл (1959) предложили кинематографическое исследование движений тела и использования пространства в качестве культурно обусловленных коммуникаций, а этнологи танцев часто используют видео- и кинокамеры, микроанализ записанного поведения был более привлекательным для социальные психологи любят Пола Экмана, чем антропологи.
В 1950-х годах Institut fur den Wissenschaftlichen Film в Геттингене запустил свой проект Encyclopedia Cinematographica, который включал в себя архив и центр изучения поведения в кино.Аналогичная организация, Human Studies Film Archives, находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия. люди. Некоторые коренные народы начали изучать видеозаписи церемониальной жизни их культур, хранящиеся в архивах, в надежде возродить свои старые традиции.
Ряд впечатляющих этнографических фильмов появился в 1950-х и 1960-х годах из различных учреждений в Соединенных Штатах, которые были направлены на университетскую аудиторию, а также на мир зрителей документальных фильмов. «Охотники» (1958) был первым североамериканским этнографическим фильмом, привлекшим внимание всего мира. История некоторых охотников и собирателей, живущих в пустыне Калахари, продолжила тему Нанука о людях, борющихся с враждебной окружающей средой, чтобы заработать себе на жизнь.Это часть тридцатилетнего исследования Джона Маршалла о сан (бушменах) на юге Африки. Он снял десятки африканских и североамериканских фильмов, включая N’ai (1980), историю жизни женщины сан, которая транслировалась по общественному телевидению США. С конца 1980-х Маршалл совмещал свою роль режиссера с ролью активиста, помогая сан в их усилиях по созданию культурной и экономической идентичности для себя, пока он снимает этот процесс.
В 1964 году Роберт Гарднер, бывший сотрудник Маршалла в Центре изучения кино в Гарвардском университете, выпустил «Мертвые птицы», исследование ритуальных войн между дани Новой Гвинеи.Фильм вырос из проекта, в котором этнографы, писатели и режиссеры описывали одну и ту же культуру, позволяя зрителям сравнивать презентации. Позже Гарднер продюсировал фильмы в Восточной Африке, Индии и Южной Америке и сыграл важную роль в создании Программы этнографических фильмов, впоследствии переименованной в Общество антропологии визуальной коммуникации и ныне известной как Общество визуальной антропологии. Фильмы Гарднера являются источником постоянных споров, потому что его вызывающий воспоминания стиль кажется некоторым антропологам слишком имплицитным.
Тимоти Аш, бывший директор Центра визуальной антропологии Университета Южной Калифорнии, работал вместе с антропологом Наполеоном Шаньоном над созданием серии популярных фильмов о яномамо Венесуэлы, включая «Пир» (1968), «Битва с топорами» (1971) и Человек по имени пчела (1972). Фильмы, наряду с письменными этнографиями и учебными пособиями, были предназначены для преподавания культурной антропологии студентам колледжей. Аш, работая со своей женой Пэтси, преследовал свои интересы в совместных съемках в Индонезии с Джеймсом Фоксом, создавая «Воду слов» (1983), и на Бали с Линдой Коннер, создавая «Освобождение духов» (1990).
Жан Руш
Новаторская работа режиссера-антрополога Жана Руша в Musée de l’Homme дала новый импульс этой области в Европе, привлекая внимание как ученых, так и кинематографистов. В начале 1960-х технический прогресс позволил небольшим съемочным группам снимать локационные фильмы с синхронным звуком. Оборудование побуждало некоторых кинематографистов записывать действия и события в качестве сторонних наблюдателей, наивно полагая, что они не оказывают существенного влияния на наблюдаемые действия.Руш придерживался противоположного подхода. Он чувствовал, что присутствие камеры может спровоцировать кинотранс, в котором испытуемые раскрывают свою культуру.
Chronique d’un été (1961) был снят совместно с социологом Эдгаром Мореном и стал первым кинематографическим фильмом, сочетающим идеи Флаэрти с идеями советского кинолога и практика Дзиги Вертова. Руш вывел камеры на улицы Парижа для импровизированных встреч, в которых процесс создания фильма часто был частью фильма. В кадре были видны кинематографисты и оборудование.Те, кого снимали, стали сотрудниками, вплоть до участия в обсуждениях отснятого материала, которые, в свою очередь, были включены в окончательную версию фильма. Chronique знаменует собой появление портативного 16-миллиметрового оборудования с синхронизированным звуком, которое сделало возможным создание современных стилей совместной и наблюдательной документальной съемки. Влияние работы Руша сразу же проявилось в фильмах французских режиссеров новой волны, таких как Крис Маркер и Жан-Люк Годар, а затем и в фильмах документалистов и этнофильмов.
Руш развивал свой подход к сотрудничеству почти сорок лет в ряде фильмов, снятых с участием западноафриканцев. Некоторые ранние работы, такие как Les Maitres Fous (1955), некоторыми критиковались как этноцентрические из-за предполагаемого чрезмерного акцента на причудливом, но другие прославляли Les Maitres как окончательный сюрреалистический текст. Руш хотел создать общую антропологию, в которой те, кто перед камерой, делили власть с режиссером. Эта идея достигла апогея в его так называемых этнографических научно-фантастических фильмах, таких как «Ягуар» (1965), Petit a petit (1968) и «Мадам Лео» (1992).Его попытки совместного кинопроизводства отражены в кинопроекте «Наследие коренных жителей Аляски» Сары Элдер и Леонарда Камерлинга. С начала 1970-х годов эта команда сняла более двадцати общественных фильмов, таких как «Барабаны зимы» (1988), в которых люди, снимавшиеся, играли активную роль в фильме от замысла до реализации. Учитывая сдвиг во власти и осознании в постколониальном и постмодернистском мире, некоторые утверждают, что единственные этнографические фильмы, которые должны быть сняты в двадцать первом веке, — это те, которые являются результатом активного сотрудничества и разделения власти между создателями этнофильмов и субъектами их творчества. фильмы.
Желание Роуча позволить нам увидеть мир глазами туземцев разделяли Сол Уорт и Джон Адэр в фильме Навахо (1966), в котором коренных американцев обучали технологии кинопроизводства без обычной западной идеологии (Уорт и Адэр 1972). Проект Уорта и Адара был частью более общего движения 1960-х и 1970-х годов, направленного на расширение производства на людей, которые традиционно снимались в фильмах.
Идея рефлексивной этнографии, которая активно привлекает тех, кого изучают, и открыто признает роль этнографа в построении образа культуры, отражает растущую озабоченность, выражаемую антропологами и создателями документальных фильмов по поводу этики и политики общества. актуальность кинопроизводства.Благодаря усилиям таких людей, как Винсенте Карелли в Бразилии (1980-е гг.), Эрик Майклс в Австралии (1987 г.) и Теренс Тернер в Бразилии (1992 г.), коренные народы начали производить свои собственные видеокассеты, что вновь повысило возможность предоставления новых видения мира. (из: Энциклопедия культурной антропологии)
Четыре измерения этнографических фильмов
В моем последнем посте я утверждал, что вместо того, чтобы выбирать между чрезмерно узким («закрытый») или чрезмерно широким («открытый») определениями этнографического фильма, было бы лучше следовать модели Уберто Эко перечисления «семьи сходств».Он будет состоять из списка характеристик, которые делают фильм «этнографическим», но без каких-либо двух этнографических фильмов, обязательно имеющих один и тот же список характеристик. Когда я написал, что у меня был черновой список из шестнадцати функций, над которыми я работал. Я планировал немного сократить его и поделиться с вами сегодня; однако после дальнейшего размышления мне пришло в голову, что более длинный список можно сгруппировать в четыре широкие категории, или «измерения», следующим образом:
- Дисциплина : особенности, относящиеся к дисциплине антропология (например,грамм. фильмы антропологов)
- Нормы : особенности, относящиеся к нормам и практике этнографических исследований (например, этика исследований)
- Тема : характеристики, связанные с темами и народами, обсуждаемыми в антропологической литературе (например, фильмы кочевых народов или о них)
- Жанр : особенности, связанные с различными стилями, связанными с жанром этнографического фильма (например, «рефлексивность»)
Если бы я рисовал фильмы, используя этот подход, это выглядело бы как так называемая «паук-диаграмма (или радар)» с фильмами, оцениваемыми по нескольким осям, каждая из которых представляет разные измерения.Как этот график, сравнивающий монстр-траки и дрэг-рейсинг по пяти осям:
Вместо того, чтобы делиться сегодня полным списком дополнительных функций, я сохраню его для следующего поста. Вместо этого я хотел бы использовать эти четыре измерения, чтобы объяснить, как такой подход к определению этнографических фильмов может работать на практике. Это поможет избежать путаницы в том, как следует использовать полный список, а также подчеркнет сильные стороны и недостатки этого подхода.
Давайте начнем с сравнения фильмов «Боги, должно быть, сумасшедшие» и «Атанарджуат: Быстрый бегун».Оба являются игровыми фильмами, снятыми неантропологами, и поэтому не должны входить в традиционные определения «этнографического фильма». Будут ли они оба приняты в соответствии с этим новым определением, поскольку они оба имеют дело с коренными народами, которые были тщательно изучены антропологами? Не обязательно. Если бы это было все, что потребовалось, такой подход к определению этнографического фильма был бы бесполезен. Во-первых, это не совсем соответствует нашей практике как антропологов: Атанарджуат был показан на этнографических кинофестивалях, но (насколько мне известно) «Боги должны быть сумасшедшими» — нет.А во-вторых, если оставить все как есть, почти каждый когда-либо снятый фильм можно было бы отнести к категории «этнографических».
Решение заключается в том, что фильм обычно должен содержать элементы более чем в одном измерении, чтобы считаться этнографическим. Домашний фильм о детском дне рождения не является этнографическим, даже если он сделан известным антропологом. И такой фильм, как «Боги должны быть сумасшедшими», не является этнографическим только потому, что он о санах. Не вдаваясь в большую дискуссию (см. Здесь и здесь, если вы хотите узнать больше), я просто утверждаю здесь, что Атанарджуат также занимает высокое место во втором измерении «фильмов, снятых в соответствии с нормами и практикой этнографических исследований». но «Боги должны быть сумасшедшими» — нет.Именно по этой причине, а не из-за предмета, мы принимаем Атанарджуат как обладающий этнографическими качествами, но отвергаем «Боги должны быть сумасшедшими».
Также стоит упомянуть, что наши методы оценки каждого из этих параметров постоянно развиваются. Дисциплина вместе с ее нормами, предметами и стилями сегодня сильно отличается от шестидесятых. По этой причине, хотя «Мертвые птицы» — один из самых знаменитых этнографических фильмов всех времен, новый фильм, снятый таким же образом сегодня, вероятно, был бы отвергнут многими фестивалями.(См. Статью Джея Руби о Роберте Гарднере, если вы хотите понять, почему это так.) Точно так же современные этнографические кинофестивали с большей вероятностью будут включать «сенсорную этнографию» или фильмы об «антропоцене», чем фестивали, организованные теми же людьми всего несколько лет назад.
Перед тем, как подвести итог, я хотел бы указать на одно ограничение мышления об этих четырех измерениях в терминах паучьего графика (как на картинке выше). А именно, мы склонны ранжировать эти измерения иерархически, но эта иерархия плохо представлена на графике.Чтобы компенсировать эту оплошность, мы можем взвесить каждый из размеров по-разному. Но этого все равно недостаточно, потому что вес, используемый для оценки одного фильма, может не подходить для другого. Например, я мог бы не так сильно оценивать стилистические особенности фильма академика, как если бы рассматривал фильм художника. И я мог бы не требовать от журналиста таких же строгих дисциплинарных норм, как от антрополога. Но чего мы хотим избежать, так это сделать любое отдельное измерение окончательным, поскольку это навлечет на нас некое «закрытое» определение, которого мы пытаемся избежать.Хотя это может быть не идеально, идея добавления весов к каждому из параметров в каждом конкретном случае кажется лучшим способом понять, как на самом деле антропологи оценивают пригодность того или иного фильма для этнографического кинофестиваля. .
В моем следующем посте я подробно остановлюсь на каждом из этих аспектов, разбив их на составляющие их особенности, но я надеюсь, что мне удалось обосновать полезность этого подхода для определения этнографического фильма и дать читателям понимание о том, как это будет работать на практике.
Столкновение миров антропологии и киноэтнографии
1 В 1977 году, рецензируя фильм о народах Восточной Африки, P.T.W. Бакстер заявил, что антропология и этнография фильмов несовместимы, потому что «они фундаментально различаются методами и целями». (In Taylor 1996: 64). В этом случае, как Люсьен Тейлор предлагает в своей статье Иконофобия: Как антропология потеряла ее в фильмах , Бакстер утверждал, что каждая дисциплина ищет совершенно разные аспекты истины и использует разные способы сшивания обрывков культуры вместе творчески.Для Бакстера, в то время как антропология отстранена и непредубеждена, пленка — это что угодно, только не: «Замена одной стеклянной линзы на наши два человеческих глаза — это властно и монокулярно; его красота искажает; он пытается упростить и обезоружить, а также навязать ». (1996: 64)
2 Десять лет спустя, как продолжает утверждать Тейлор, Морис Блох не только заявил, что он «не очень интересуется» этнографическими фильмами, но и более воинственно, что «он вообще с трудом переносит их просмотр». (1996: 64) Блох утверждает, что если этнографические фильмы должны сниматься вообще, они должны быть сделаны с тезисным компонентом.Для него текстуальность сама по себе и одна только текстуальность — единственное средство узаконить серьезную визуальную антропологическую попытку. С другой стороны, визуальность становится просто вспомогательной, иллюстративной, а не составляющей антропологического знания.
3 Точно так же антрополог Кирстен Хаструп продолжала отстаивать первенство письменной дисциплины в борьбе с фотографическими и аудиовизуальными репрезентациями данной культуры. В своей статье «Антропологические видения: некоторые заметки о визуальном и текстовом авторитете » Хаструп помещает целый ряд противопоставлений между фильмами и текстами, стремясь определить разницу между визуальной и текстовой силой в антропологии.С одной стороны, она утверждает, что фильм способен дать только «тонкое» описание происходящего. Текст, напротив, способен создать «толстое» описание события, которое уже является событием, наделенным культурной значимостью. По ее словам: «Хотя тонкое описание может улавливать формы, само по себе оно не может передавать неявный смысл. Формы не имеют культурного смысла, если их изучать независимо от местных смысловых отношений и современных условностей репрезентации ». (1992: 10) Идея состоит в том, что хотя событие является объективным явлением, рассматриваемым издалека, событие встроено в субъективность от первого лица и рассказывается с точки зрения перспективы.Таким образом, только письмо, как предполагает Хаструп, может вызвать экзистенциальную ткань места у кого-то, кого там не было.
4Бакстер, Блох и Хаструп рассматривают фильмы как бесспорно более низкую эпистемологическую продукцию по сравнению с письменными текстами. Движущиеся изображения, кажется, не имеют культурной значимости в практике антропологии здесь. Для них изображение и его звуковое сопровождение остаются второстепенным проявлением идеи; Аудиовидение по-прежнему является аксессуаром к удовольствиям представления, в то время как текст гарантирует смысл.
5 Вопреки их мнению, я не понимаю, почему фильм не может быть составной частью антропологического знания. С одной стороны, наше видение, как само кино, постоянно и буквально обрамляет мир; он естественно оснащен функцией фокусировки и потери фокуса, глубины резкости, левого и правого края, верхнего и нижнего пределов. С другой стороны, наши уши, как акустическая среда фильма, обеспечивают воплощение визуального восприятия, потому что мы видим только в одном рамочном и плоском направлении, тогда как слух всегда трехмерен.Заимствуя выражение Маршалла Маклюэна, фильм становится расширением нашей физической способности видеть и слышать мир.
6 Вместо того, чтобы подчеркивать несоответствия между письменным и аудиовизуальным событием, я предлагаю рассматривать миры антропологии и киноэтнографии как междисциплинарную область, разделяющую практическое сообщество, что Wenger et al. определить как «группу людей, которые разделяют озабоченность, ряд проблем или увлечены какой-либо темой и которые углубляют свои знания и опыт в этой области путем постоянного взаимодействия.(In Pink 2006: 4) В этой строке я утверждаю, что взаимодействие исторически было динамичным и непрерывным. Параллельные занятия управляли практикой, проблемами и точками зрения антропологии и этнографии кино. Они разделяют общую совокупность знаний, которая формирует в разные периоды времени и пространства аналогичные предположения о данном Другом. Таким образом, воспринимаемый динамический континуум выделяет три последовательных периода в антропологии и этнографии кино, начиная с первых десятилетий двадцатого века и заканчивая современными этнографическими практиками.Первый момент касается работы Роберта Флаэрти Nanook of the North (США, 1922) и работы Бронислава Малиновского, который, среди других антропологов, трансформировал дисциплину с естественнонаучного мировоззрения девятнадцатого века на гуманистический подход двадцатого века. Я утверждаю, что фильм Флаэрти во многих отношениях иллюстрирует общую схему полевых исследований, предложенную Малиновским для более точной записи жизни местных сообществ. Именно в этот период Малиновский и Флаэрти установили то, что впоследствии стало общепринятым предметом и методологической схемой для антропологии и этнографического кинопроизводства.
7Второй момент — это переходный этап в истории антропологии и киноэтнографии. Я сосредотачиваюсь на французской школе, которая к 1940-м годам начала декларировать радикальное чувство сомнения относительно научных претензий на объективность и методологий, использовавшихся предыдущими антропологами. Здесь я исследую связи между произведениями Марселя Мосса и его влиянием в фильме Жана Руша « cinéma-vérité». Для первых было бы иллюзией утверждать, что антропология может раскрыть окончательную «истину» или «реальность» данной культуры.Мосс постоянно критиковал как относительную сложность примитивной мысли в отличие от современной рациональности, так и претензии на научную объективность как прозрачную практику. Эта эпистемология поддерживала кинематографию Руша парой основных принципов: реальность доступна познанию только в частичной форме и что доступ к этой реальности включает поэзию — чувственную — в такой же мере, как науку — рациональную.
8 Наконец, третий момент исследует сенсорный поворот, который произошел в антропологии и этнографии кино на пороге нового тысячелетия.В этом разделе я представляю антропологию Эдуардо Вивейроса де Кастро, бразильского социального антрополога, который показывает, что то, что подпадает под сферу «человеческих» отношений для амазонских людей, настолько обширно — животные, растения, духи — все одобряются агентством — что современные Провозглашаются бесполезными различия между природой и культурой или животными и людьми. Как кинематографический аналог этой философии, я рецензирую аудиовизуальные работы Лаборатории сенсорной этнографии (SEL) Гарвардского университета. Они поддерживают новаторские сочетания эстетики и этнографии, которые исследуют новые телесные практики, чтобы учесть более чувственное и воплощенное восприятие окружающей среды.Основное внимание уделяется принятому критиками фильму SEL «Левиафан » (Кастен-Тейлор, Люсьен и Верена Паравел, 2012), который демонстрирует, как в киноэтнографической практике вопрос «Другой» был сформулирован неадекватно изощренно. Leviathan основан на характерном для SEL телесном подходе к кинопроизводству, который принимает в высшей степени чувственную форму личного выражения. Я утверждаю, что именно благодаря постгуманистическому подходу к опосредованной реальности фильм соответствует отмеченному измерению амазонских людей по множеству ссылок, изображая тела как основные проводники перспективы.
Nanook of the North
Zoom Original (jpeg, 68k)
Скриншот
Фильм Роберта Флаэрти, США 1922
9 Поскольку британское документальное движение развивалось в первые десятилетия двадцатого века, вероятность того, что два его первопроходца в один прекрасный день будут работать вместе, казалась все более вероятной.Также казалось неизбежным их столкновение. Вера Джона Грирсона в промышленный прогресс и социально значимые попытки изобразить рабочих как машины контрастировали с чувством Роберта Флаэрти к индивидуальным достижениям и стилем наблюдения. Фактически, в то время, когда Грирсон и Флаэрти работали вместе над Industrial Britain (Flaherty 1931), Грирсон заявил, что:
Чутье [Флаэрти] к старинным ремеслам и старым мастерам было превосходным, и никогда не будет такой стрельбы, с которой можно было бы сравниться; но он просто не мог подчиниться концепции тех других видов мастерства, которые присущи современной промышленности и современным организациям. (Грирсон 1992: 91)
10 Подход Флаэрти к фильму был в первую очередь исследователем. Обладая талантом к старому и экзотическому, он использовал камеру для съемки незнакомых территорий. В своем наиболее известном фильме Нанук с севера он хотел изобразить жизнь инуитов, чтобы показать в Европе, какой была жизнь «типичного эскимоса и его семьи» (Flaherty 1969: 216). Как и этнографы своего времени, Флаэрти рассматривал коренных жителей как примитивные версии того, что должно было стать современными цивилизациями, парадигму, замкнутую в двухсторонних «горячих и холодных» обществах, которые Леви-Стросс (1974) упоминает в Структурная антропология .
- 1 Флаэрти попросил своих подданных возродить опасный метод охоты на моржей, которым инуиты владели (…)
- 2 Даже когда у эскимосов была полигамная семья, Флаэрти изображал клан Нанука как моногамный (…)
- 3 В длинном кадре, например, зритель наблюдает и ждет, пока Нанук сидит над дырой, которую он вырезал (…)
11Флаэрти был горным инженером и большую часть десятилетия жил среди эскимосов Гудзонова залива, прежде чем снялся в фильме.Он был убежден, что долгая жизнь среди своих подданных позволит ему узнать их достаточно хорошо, чтобы документальный фильм соответствовал их жизни. Однако восхищение Флаэрти сообществом инуитов не только заставило его подчиниться иностранному образу жизни; Нанук с севера также изображает его жесткую колонизацию окружающей среды эскимосов путем приручения всех ее странных владений. Как предположил Уильям Ротман (1998) в книге Режиссер в роли Охотника: Роберт Флаэрти Нанук с севера , Флаэрти, похоже, не имел никаких сомнений по поводу изменения реальности, постановочных аспектов охоты на тюленей1, семейной структуры инуитов2 или говорит нам, что Нанук и его семья находятся на грани голодной смерти, хотя Флаэрти там с большим количеством провизии.Таким образом, создатель фильма стремится убедить зрителя в том, что Нанук — прекрасный поставщик, продемонстрировав свое мастерство в охоте на моржей, строительстве иглу и гарпунировании тюленей.3
12 В тот же период антрополог Бронислав Малиновский радикально изменил самобытность этой дисциплины. Отходя от методологических условностей девятнадцатого века, Малиновский и его коллеги W.H.R. Риверс, Франц Боас и Альфред Кребер — превращали антропологию из ее прежних естественнонаучных взглядов в новое гуманистическое предприятие.Цель Малиновского, как и у Флаэрти, состояла в том, чтобы понять и перевести «сырые» общества на общий — западный — язык. Опубликованный в 1922 году его Аргонавты Западной части Тихого океана служит иллюстративным антропологическим аналогом книги Флаэрти «Северный Нанук ». Стремление Малиновского отразить образ жизни туземцев путем декодирования их культурных практик за пределами области их происхождения ясно видно в различии, которое он проводит между взглядами акторов — туземцев — и интерпретацией аналитика — антрополога.Что касается кольца Кула на Тробрианских островах, Малиновский заявляет:
Следует помнить, что то, что нам кажется обширным, сложным и все же хорошо организованным институтом, является результатом стольких дел и занятий, проводимых дикарями, у которых нет определенных законов, целей или уставов. Они не знают общих черт своей социальной структуры (…) Даже самые умные туземцы не имеют четкого представления о Куле как о большом организованном социальном сооружении (…) Объединение всех наблюдаемых деталей, достижение социологического синтеза всех различных релевантных симптомов — вот задача этнографа (…) Этнограф должен построить картину большого учреждения, очень много поскольку физик строит свою теорию на основе экспериментальных данных, которые всегда были доступны каждому, но требовали последовательной интерпретации. (2001: 83-84)
13 Отрывок из Аргонавтов Западной части Тихого океана и сцены из Нанук Северного показывают обычную практику, которую использовали Малиновский и Флаэрти для представления «правды» туземцев как «антрополога и человека. режиссер видел это ».Однако, принимая во внимание более гуманистическую сторону их проекта, даже когда Флаэрти превратил Нанука и его семью в беллетризованных актеров, он, тем не менее, активно сотрудничал с ними, что до сих пор редко. Нанук с севера до сих пор считается плодотворным вкладом в этнографическую традицию кино. Это новаторская работа, которая помогла установить форму документального фильма с наблюдениями, поскольку он снимался полностью на месте, без актеров. Кроме того, Флаэрти также проявлял больший интерес к жизни местных жителей, чем, вероятно, любой другой западный режиссер-документалист до него.Как предлагают Илиса Барбаш и Люсьен Тейлор в книге Межкультурное кинопроизводство: Справочник по созданию документальных и этнографических фильмов и видеороликов , Флаэрти показал некоторые из отснятых материалов для своих испытуемых, получив их отзывы и предложения относительно будущих сцен, которые они могли бы снять. (Барбаш и Тейлор, 1997). Такое интерактивное представление вдохновило Жана Руша, который, как мы вскоре увидим, ввел концепцию «общей антропологии».
14 В этом ключе стремление Флаэрти разрабатывать сцены в сотрудничестве со своими испытуемыми было методологически сопоставимо с антропологией Малиновского, основанной на «документировании конкретных свидетельств и невесомости повседневной жизни».(In Marks 1995: 340) В своей книге « Аргонавты Западной части Тихого океана», Малиновский изложил общую схему антропологической полевой работы, которая должна собирать «характерные рассказы, типичные высказывания, элементы фольклора и магические формулы. [Эта цель была] понять точку зрения туземца, его отношение к жизни, реализовать его видение своего мира ». (1922: 24-25) Таким образом, Флаэрти в значительной степени разделял мнение Малиновского о том, что культурная практика имеет смысл с точки зрения системы, в которой она происходит.Оба представили повседневные сцены туземцев таким образом, чтобы их внутренняя логика стала очевидной для внешнего глаза. По словам Малиновского: «Полевая работа состоит только и исключительно в интерпретации хаотической социальной реальности». (1922: 238).
15 Оглядываясь назад, Нанук с севера как и аргонавтов западной части Тихого океана трансформируют разрыв между западом и незападом в разрыв между культурой и природой — или гармонию и хаос.В обоих случаях существует граница между «цивилизованной землей» и «дикой природой», граница, лежащая в основе таких разделений, как метрополитен против деревенского, поселенец против туземца, закон книги против закона гарпуна. Короче говоря, аналитик-исследователь против охотника-туземца. Следовательно, если Малиновский, который постоянно проводил и утверждал демаркационную линию между западом и родной землей, изобрел современную этнографию, то мы не должны колебаться, чтобы утверждать, что Флаэрти изобрел этнографический фильм.
Фильм Жана Руша, Франция, 1967
16 За десятилетия, прошедшие после публикации Аргонавтов Западной части Тихого океана , соглашения Малиновского о включенном наблюдении для этнографических полевых исследований получили широкое распространение в антропологии. Этнографический анализ стал больше сосредотачиваться на значении конкретных действий, чем на предоставлении обзора широких социальных моделей.Точно так же видеоматериалы стали считаться более важным средством научных исследований. Привлекательность этнографического документального кино в антропологии теперь возросла благодаря развитию кинотехнологии, которая к 1950-м годам позволила этнографам снимать кадры там, где когда-то это было невозможно. Таким образом, финансовые и технические усилия Флаэрти по созданию Nanook of the North были преодолены развитием легких фотоаппаратов и портативного синхронизирующего звукового оборудования, что позволило кинематографистам записывать социальные действия с такой степенью детализации, которую вряд ли мог бы любой этнограф. соответствие.
17 Примерно в то же время связи между антропологией и этнографией кино также сблизились во Франции. Жан Руш, назначенный Генеральным секретарем Международного комитета этнографических и социологических фильмов в 1952 году, стремился установить «связи между гуманитарными науками и кинематографическим искусством как с точки зрения развития научных исследований, так и для расширение искусства кино.(In Eaton 1979: 4). Считающийся одним из пионеров визуальной антропологии, Жан Руш использовал камеру в качестве записывающего инструмента для документирования повседневной жизни в различных регионах Африки. Для него визуальная антропология была практикой в высшей степени наблюдательной, целью которой было не выполнение широкого описания всего, а запись «точного определения одной техники или ритуала». (Rouch 1995: 62).
18Rouch также впервые ввел в употребление термин cinéma vérité — или правдивое кино — для того, чтобы принять глубоко наблюдательный стиль кинопроизводства.Он призвал к более интерактивному документальному стилю, основанному на предположении, что этнографические исследования никогда не могут быть объективными. Возможно, его целью было радикально обновить документальный фильм , эпистему и создать новый тип реальности:
Объективность состоит в том, чтобы вставить то, что известно, в то, что снимается, вставить себя с помощью инструмента, который вызовет появление определенной реальности (…) Когда у меня есть камера и микрофон, я не являюсь собой, как обычно, я ‘ м в странном состоянии, в кино-транс .Это объективность, на которую можно рассчитывать, прекрасно осознавая, что камера есть и что люди ее знают. С этого момента мы живем в аудиовизуальной галактике; возникает новая правда, cinéma-vérité , которая не имеет ничего общего с нормальной реальностью. (Руш 1978: 55)
19 Руш учил, в частности, Марсель Мосс, основоположник социальной антропологии. Как говорит Рубен Кайшета де Кейрос (2012) в своей статье Между разумным и понятным , Мосс оказал большое влияние почти на все отрасли французской антропологии, начиная с более интеллектуальных тенденций, таких как Джордж Батай и Клод Леви. Штраус — более экспериментаторам и артистам, таким как Жан Руш и Жермен Дитерлен.Фактически, две последние фигуры нашли в аудиовизуальных записях новое средство художественного выражения мауссовской антропологии с целью проблематизировать гегемонию Запада.
20 В своих аудиовизуальных этнографиях догонов и бамбара в Африке в 1940-х и 1950-х годах Руш и Дитерлен намеревались продемонстрировать сложный характер церемоний и ритуалов, проводимых народом оготеммели. По их словам, события догонов, основанные на устной архаической традиции, выполняли функции, аналогичные основным письменным текстам западной метафизики, религии и литературы, но способом, который «был уникальным для мировоззрения Оготеммели».»(2012: 207) Как также предполагает Марсель Гриоль, меры предосторожности и уважение, проявленные создателями фильма к местным знаниям, были верны принципу, согласно которому« местная космологическая система была настолько сложной, что соответствовала западной философии. ” (1965: 1)
21 Представление Руша о реальности как множественной, субъективной и разнообразной, несомненно, находится под влиянием критики Мосса относительной сложности примитивной магической мысли в противовес западной современной рациональности и ее претензий на научную объективность как прозрачной практики.В своей работе Theory of Magic , Mauss поместил современную науку именно в субъективные основы магической мысли. Он утверждает, что в магии есть офицеры, представления и действия. Исполнители — шаманы, алхимики, врачи и астрологи — должны придавать большое значение знаниям и их интересам в понимании природы. Это потому, что «только систематическим способом овладеть миром офицер может стать настоящим волшебником». (2001: 176) С другой стороны, магические действия совершаются только в том случае, если все сообщество верит в эффективность выполняемого обряда, поэтому только с согласия общественного мнения шаманские действия могут приобретать символическое значение.Короче говоря, то, что действительно делает магические обряды в высшей степени эффективными, — это вера, и именно благодаря действиям — созданию реальности — магию можно распознать как таковую.
- 4 Аналогичное рассуждение происходит от ученика Мосса Клода Леви-Стросса. В своей книге Миф и значение , h (…)
22 Таким образом, для Маусса логика мифической мысли становится такой же строгой, как и логика современных. По его словам: «магия служила науке так же, как маги служили ученым.(2001: 176) 4. Это также подразумевает, что, как по существу субъективная практика, именно в обеих вселенных главная движущая сила знания старого алхимика — сила становится главной проблемой. Следовательно, в свете этого парадигматического сдвига субъективность — знание как убеждение — означает, что постоянно существует что-то из реального или воображаемого, что остается неизвестным и недоступным для тех, кто пытается это понять. Такой мауссовский подход к реальности прямо заявлен Рушем.В одном интервью он заявляет:
Сейчас гуманитарные науки — это нечто очень специфическое. Как сказал Марсель Мосс, наблюдатель по определению неизбежно играет тревожную роль. Очевидно, что сам факт разговора с людьми беспокоит вас и других. С того момента, как вы интервьюируете меня, вы уже не тот, а я уже не тот. (Руш 1981)
- 5 Mauss был в восторге от использования камеры для антропологических исследований.Он (…)
23 Многие фильмы Руша преследовали научные цели. Через камеру он намеревался точнее описать материальную ткань обрядов чужих культур. Однако даже в его самых реалистичных фильмах — особенно в сериале Sigui с 1966 по 1973 год — доступ к исходному материалу всегда был связан с поэзией — чувственным — и наукой — рациональным. По его словам, и следуя предложению Мосса ввести фильмы в этнографические исследования5, кино позволило исследовать более прозаические аспекты социальной жизни, то есть ее материальную сторону, соединение пережитого с опытом.
24 Следовательно, если мы последуем приведенному ранее определению «общей антропологии» Руша (как близкому отождествлению одной техники или ритуала), то доступ к реальности будет как-то неполным, если научное знание не вовлекает чувства в такой степени, как рациональное. Это для него, и, как мы вскоре увидим и для телесной praxis SEL, точка различия между письменной и (аудио) визуальной антропологией:
Хорошая антропология — это не широкое описание всего, а точное определение одной техники или ритуала.Ритуалы должны быть драматичными. Это творения людей, которые хотят, чтобы они были интересными и увлекательными. (…) То, что вы не можете получить в письменном виде, — это драматичность ритуала. Письмо не может иметь такого эффекта. В этом весь смысл визуальной антропологии. (Руш 1978: 4)
25 Таким образом, его cinéma vérité попытался предложить новую возможность показывать людей и места в как можно более неизмененном состоянии. Однако было бы иллюзией утверждать, что его этнографии могут раскрыть «истину в последней инстанции» действительности.В проекте Руша нас просят быть не наблюдателями события, а скорее наблюдателями наблюдения за событием. Как по сути субъективная практика, «чистая этнография» больше невозможна, потому что фильмы — это все, что режиссер показывает своими методами и своей точкой зрения. Следовательно, в cinéma vérité, этнография становится очень специфической означающей практикой, которая выражает реальность реальностью, или, точнее, языком, который дублирует реальность.
Фильм Люсьена Кастен-Тейлора и Верены Паравел, США, 2012
26 Cannibal Metaphysics , недавняя этнографическая работа Эдуардо Вивейроса де Кастро об индейском народе, произошла в самом начале нового тысячелетия, момент эпистемологического землетрясения для современной мысли.Этот сдвиг — это то, что постструктуралистские теоретики называют «онтологическим поворотом» в западной истории. Аннотации Вивейроса де Кастро по космологии американских индейцев внесли значительный вклад в более позднюю теоретическую программу, лежащую в основе дихотомий современности, для развития более чувственного понимания возможных миров. В качестве кинематографического аналога этой философии фильм Leviathan из лаборатории сенсорной этнографии Гарвардского университета (SEL) исследует новые телесные практики для записи материальной жизни из оптической реальности, которая не сосредоточена строго на человеческой форме.Как я проиллюстрирую ниже, именно в обоих случаях тела становятся главными проводниками деятельности и перспективы, следовательно, берется новая отправная точка в отношении антропологической эпистемы двадцатого века.
27 В рамках своей теории перспективизма Вивейрос де Кастро выдвигает плюралистическую онтологию, которая помогает понять, что такое точка зрения для ее носителя. Для него мир, представленный коренными жителями Амазонки, подразумевает, что для того, чтобы охватить множество агентств, необходимо жить — и верить — в месте, населенном широким кругом субъективных агентов.Вселенная Аравете включает, помимо прочего, животных, растения, богов, объекты, мертвых и людей; все живут в тесной близости и взаимосвязанности друг с другом. Все эти люди, как животные, предметы и растения, обладают одним и тем же общим набором перцептивных и когнитивных предрасположенностей. Ибо, как сказал бы Делез, в Амазонке нет точек зрения на вещи, поскольку вещи сами по себе являются точками зрения.
28 В мире мысли, столь ином, как индейцы, то, что действительно делает множественные точки зрения одинаково значимыми, — это общее состояние видов, то есть их общий статус личности.Согласно антропологу, каждая связанная сущность задумана как имеющая, независимо от ее телесной формы, душу человеческого характера, и все существа, таким образом, воспринимают себя как людей. Например, считается, что ягуары считают себя людьми, видят людей как человеческую добычу, а свою собственную пищу — как человеческую. По мнению Вивейроса де Кастро, все существа видят и представляют мир одинаково: «их миры вращаются вокруг охоты, войны, еды, рыбалки, обрядов инициации, шаманов и духов».(2014: 71) Но что меняется среди них, так это мир, который они видят. Для антрополога это то, что видят другие виды, когда видят их так, как мы делаем что-то другое: «то, что мы принимаем за кровь, ягуары видят как пиво; то, что люди воспринимают как грязевую лужу, становится для тапиров величественным церемониальным домом ». (2014: 71)
29 Следовательно, для успешного ведения переговоров об отношениях с другими видами необходимо принять их точки зрения. Например, индейские шаманы, чтобы понять, как ведут себя другие сущности, и увидеть окружающую среду, должны похитить свои силы и стать своей материальностью, которую Гимарайнс Роза называет «кем-то из вещей».(В Viveiros de Castro 2014: 61) Поскольку «знать» означает «олицетворять» для коренного населения, то шаманы — это те, кто придерживается точки зрения , что должно быть известно, или, скорее, тот, кого должен быть известен.
30 В своем тексте Чей космос, какая космополитика? Бруно Латур также вспоминает, как туземцы делали упор на тело, как описано. Латур вновь обращается к старому диспуту в Вальядолиде, который проводили испанцы, чтобы решить, есть ли у индейцев души, которые могут быть спасены.Тогда проблема заключалась в том, чтобы определить, достаточно ли у туземцев «души» и «разума», чтобы их считали частью человеческого царства. Однако сегодня нас интересует то, что, несмотря на разногласия конкистадоров, в районе Амазонки также имелись соответствующие претензии. Как подчеркивал Латур, их проблема заключалась не в том, чтобы решить, есть ли у испанцев души, а в том, есть ли у них тела, потому что для всех сущностей аравате есть души, и их души все одинаковы: «Что отличает их друг от друга, так это то, что их тела различаются, и именно тела придают душам противоречивые взгляды.”(2004: 452) Перевернув термины, взгляды индейцев на мир действительно многочисленны, разнородны и открыты для различных интерпретаций именно потому, что их научные предпосылки и процедуры определяются не метафизическими категориями, а телесными экспериментами: тела — это структура восприимчивые и познавательные предрасположенности жизни.
31 Эта философия, основанная на межвидовом перспективизме, представляет собой онтологию — или, скорее, различные онтологии, — которая переворачивает не только западные отношения с его незападным Другим, но, что более радикально, все термины его давнего метафизического дуализма.Какой урок киноэтнографии можно извлечь из взглядов индейцев на мир? Если антропология и киноэтнография шли бок о бок в двадцатом веке, не следует ли трансформировать аудиовизуальную среду в аналогичный способ существования?
32 Постчеловеческое кино, как и вера американских индейцев, предполагает именно взгляд, который смотрит под необычным углом; точка зрения нечеловеческого глаза. Это стиль кинопроизводства, который пытается вырваться за системные границы традиционной дистанции кино, представляя централизованную систему, в которой движущиеся изображения становятся множественными референтами; структура, в которой вещи различаются по отношению друг к другу.Аудиовизуальные произведения, созданные SEL Гарвардского университета, во многих отношениях являются этнографическим посредником такого постгуманистического подхода к визуальной культуре.
- 6 Sensory Ethnography Lab, по состоянию на 1 декабря 2015 г., https://sel.fas.harvard.edu/
33 Как указано на веб-сайте, SEL использует перспективы, «почерпнутые из гуманитарных наук, искусства и гуманитарных наук [с целью] поддержки инновационных сочетаний эстетики и этнографии, с оригинальными научно-популярными медиа-практиками, которые исследуют телесную практику и эмоциональную ткань человеческого существования.”6 Люсьен Кастен-Тейлор основал лабораторию в 2006 году как место для сотрудничества между факультетами антропологии и визуальных исследований Гарвардского университета. С тех пор цель состояла в том, чтобы стимулировать широкий спектр аудиовизуальных произведений, от видеоинсталляций до фильмов с синхронным звуком, созданных антропологами-художниками.
34 Согласно подходу SEL к реальности, движущиеся изображения происходят от тела. Для режиссеров телесные инстинкты имеют первостепенную роль — диктовать действие того, что они снимают.Верена Парав, соавтор Leviathan , заявила во время одного интервью, что в большинстве случаев ей не нужно смотреть то, что она снимает, потому что «все, что снимается, исходит от чувственного тела». (Parave and Castaing-Taylor, 2012) Такая приверженность телесному также помогает восстановить часть автономии, которую зрители потеряли при интерпретации опосредованной реальности. Левиафан , например, сводит к минимуму авторское вмешательство за счет использования очень наблюдательного и интерактивного стиля кинопроизводства.Он предлагает эстетику, которая поддерживает длинные планы, крупные планы, синхронную речь и темп, верный ритмам реальной жизни — таким образом, препятствуя сокращению, инсценировке и интервью. Как пояснил Кастен-Тейлор, в этом фильме субъекты «менее искалечены монтажом, и зрители могут обрести смысл или просто уйти с ощущениями, которые не согласуются с создателями». (Парав и Кастен-Тейлор 2012)
35 Снимок, сделанный полностью на борту промышленного рыболовного траулера и снятый крошечными водонепроницаемыми цифровыми камерами, установленными в разных местах, Leviathan рассказывает об опыте создателей фильма в темных и опасных водах северной части Атлантического океана у побережья Массачусетса.Он приближается к материальному измерению рыболовного судна, лишенного каких-либо говорящих субъектов или намеренного кадрирования, путем прикрепления камер GoPro в разных местах вокруг лодки: на тактильном и подвижном теле работающих рыбаков — в их головах, запястьях и груди — на еще не мертвые существа на борту, на скользком полу или на деревянных палках, пытающиеся добраться до летающих чаек в небе.
- 7 Концепция дефрейминга, или décadrage на французском языке, была первоначально использована Паскалем Бонизером для (…)
36 В Leviathan наложение смысла сводится к минимуму, как только точки входа в фильм воплощаются в нескольких сущностях на борту лодки. Именно преодолевая более традиционное и статичное представление о кадрировании, неоднородность ракурсов камеры дает еще один стандарт измерения того, что снимается. Охад Ледесман в связи с этим понятием дефрейминга7 делает интересное наблюдение, заявляя, что фильм скорее структурирован с точки зрения воплощенной мухи, чем с точки зрения человеческого глаза: «Из-за своей сферической формы и выступа из головы мухи глаза дать мухе почти 360-градусный обзор мира.Таким образом, муха видит мозаично, и тысячи крошечных изображений сливаются и вместе представляют собой один визуальный образ ». (В Wahlberg 2014)
37 Одержимость Левиафана материальным миром не только делает все в фильме интуитивным; это также делает процесс просмотра-чтения довольно трудным для восприятия. Без произнесенных слов, которые могли бы направить нас, зритель должен бороться — как и рыбаки и создатели фильмов — чтобы знать, что на самом деле показывают и как вписать эти изображения в повседневную жизнь рыбацкой лодки.С самого начала Leviathan показывает, что мы погружены в середину почти черного океана, поэтому, лишенные конкретной визуальной ориентации, зрители во многих отношениях более восприимчивы к акустическим эффектам фильма, чем к изображениям. Поскольку работа, которую нелегко выполнить с помощью письменной этнографии, аудио играет решающую роль в этом фильме.
38 Разработанный Эрнстом Карелом и переработанный Якобом Рибикоффом, звук появляется много раз до и после изображения.Это заставляет ухо привыкать к шуму промышленного процесса добычи в океане, когда двигатель рыболовного траулера сочетается с захватывающим шумом, производимым помещенными в корпус камерами GoPro при погружении. Кроме того, принимая во внимание, что слух — это явление, связанное с волнами — следовательно, также с движением и, в частности, с этим фильмом — диегетический звук Leviathan постоянно добавляет больше вибрации и движения уже плавающим на борту телам.В некотором смысле именно ухо делает изображение видимым в Leviathan , потому что именно аудио-событие затем становится визуальным. Куда бы глаз ни осматривал лодку, ухо прислушивается к тому, что ищется: оно покрывает, касается и окутывает тело зрителя.
39 В заключение я предлагаю принять аргумент в пользу воплощенного восприятия в Leviathan как аудиовизуальный аналог теории Вивейроса де Кастро об индейской космологии.Тела стали в обеих вселенных основными проводниками перспектив, пытаясь вернуть точки зрения к феноменологии различных видов. Таким образом, межвидовая телесная практика, изображенная в документальном фильме, творчески соответствует отмеченному измерению метафизики американских индейцев по множеству ссылок. Итак, если человека традиционно рассматривали как «существо на языке», а животное долгое время изображали как «существо в своем теле», то это происходит через телесную практику SEL praxis в той же мере, как и за современная антропология, в которой художественные и философские исследования исследуют новые стратегии, позволяющие оставить позади старый дуализм между мышлением cogito и животным Другим.Следовательно, если задача заключалась в том, чтобы сделать возможным переживание места за пределами его современных границ, то современная этнографическая практика зависит исключительно от того, сколько внимания мы уделяем концепциям различия, множественности, тел и становлений. Если заимствовать выражение Латура, который также упоминается в титрах фильма , , я надеюсь, что показал, что в фильме SEL Leviathan столько же, сколько и в Amazonas, есть больше способов быть другими и гораздо больше других, чем большинство терпимая душа живым может зачать.'(2004: 453)
40 Столкновение между антропологией и этнографией кино, представленное в этой статье, можно рассматривать просто как совокупность письменного и аудиовизуального события. Съемка здесь была воспринята как аналог письма, то есть с субъективностью от первого лица и повествованием с точки зрения перспективы. Таким образом, создание возможности переживания места, попадающего в поле зрения, означает, что этнография кино получила «антропологическую силу», открытую как для аналитического значения, так и для множественных взглядов.Таким образом, дискурсивные отношения между дисциплинами в первую очередь рассматривались с учетом сходного этнографического набора проблем и изменения отношений в отношении понятия «Другой». В фильмах Флаэрти «Нанук Севера » и Малиновски « Аргонавты Западной части Тихого океана» общие методологические условности руководили работой режиссера и антрополога по построению картины иностранной культуры. Для них полевые исследования заключались исключительно в интерпретации местной реальности в той степени, в которой они создавали родной мир, выражаемый западным «я».Таким образом, отчеты Малиновского и Флаэрти демонстрируют не только то, как можно легко придумать что-то — исходя из культурной, исторической, политической или психологической реальности, но также то, как интерпретация наблюдателя может также быть представлена как истинная, таким образом вызывая эффекты истины в пределах художественный дискурс. По этой причине, вместо того, чтобы «стать Нануком» или «стать аргонавтом» — чьи позиции строго меньшинства, я выдвинул общий взгляд, принятый Малиновским, антропологом, и Флаэрти, кинорежиссером.Их общая гуманистическая практика — это именно то, что помещает в этнографическую близость текст и кинематографическое событие. Оба проявляли больший интерес к жизни коренных жителей, чем, вероятно, любой другой этнограф до них. Но, как я утверждал, они одновременно блокировали реальность туземца, применяя антропологические знания для выражения и перевода чужого мира.
41 Подобная серия методологических сборников делает различия между « cinéma vérité » Жана Руша и антропологией Марселя Мосса совершенно неразличимой.Они разделяли концепцию реальности как множественной и неоднородной структуры, которая привела к их взглядам на научные утверждения как на не что иное, как субъективный опыт наблюдателя. «Чистая этнография» здесь уже невозможна. Скорее, то, что они объясняют, является очень специфической практикой обозначения, в которой выражение материального мира производится путем вставки того, что человек знает — методов и опыта — в то, что он видит, — точки зрения. Таким образом, каждый акт познания становится вселенной с тревожными дырами в ней, потому что всегда есть что-то «реальное», что остается недоступным для тех, кто пытается это постичь.Наконец, общая зона неразличимости Руша и Мосса также выразилась в их исследовании более прозаических и материальных аспектов социальной жизни, то есть вовлечения в их этнографическое предприятие как чувств, так и разума.
42 В случае с Вивейросом де Кастро Cannibal Metaphysics и фильмом SEL Левиафан, понятие становления было рассмотрено более прямо; становление и множественность здесь одно и то же.Союзы не заключаются исключительно в предыдущих методологических соглашениях, которые были общими для антропологов и кинематографистов. Отношения теперь существуют в рамках гораздо более широкой сети аффектов, изображаемых различными сущностями, обитающими в окружающей среде. Принимая иностранные агентства через телесность, индейцы в такой же степени, как и документальный фильм SEL, продемонстрировали способность воплощенной перспективы находить зону неотличимости между Одним и другим.
43 Тогда я надеюсь, что Столкновение миров антропологии и киноэтнографии действительно будет пониматься как динамический континуум .Цель состояла в том, чтобы исследовать, как этнографические знания всегда действуют на изменчивой основе, таким образом, понимая также условности и опыт настоящего как реальность, которая завтра может поставить под вопрос очевидные предположения о дисциплинах.
