Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв
Ad
Ответы на сканворды и кроссворды
Еврипид
Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв
НАЙТИ
Похожие вопросы в сканвордах
-
Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв -
Автор трагедии «Медея» 7 букв -
Древнегреческий драматург, отец европейской трагедии 5 букв
Похожие ответы в сканвордах
-
Еврипид — Мужское имя (греческое) 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий поэт 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий поэт и драматург, творчество которого сложилось в период кризиса афинской демократии 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург, трагедия «Вакханки 7 букв -
Еврипид — Этот грек написал «медею», а критики тех лет называли его «философом на сцене» 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий драматург, представитель новой аттической трагедии, в которой преобладает психология над идеей божественного рока 7 букв -
Еврипид — 1 из 3 великих античн. драматургов 7 букв
драматургов 7 букв
-
Еврипид — Автор трагедии «Медея» 7 букв -
Еврипид — Автор трагедии «Орест» 7 букв -
Еврипид — Автор трагедии «Электра» 7 букв -
Еврипид — Драматург из Эллады 7 букв -
Еврипид — Известный древнегреческий драматург 7 букв -
Еврипид — Древнегреческий поэт-драматург, младший из трех великих афинских трагиков 7 букв -
Еврипид — Один из трёх великих античных драматургов 7 букв
древнегреческий драматург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра», 7 букв, 6 буква «И», сканворд
Слово из 7 букв, первая буква — «Е», вторая буква — «В», третья буква — «Р», четвертая буква — «И», пятая буква — «П», шестая буква — «И», седьмая буква — «Д», слово на букву «Е», последняя «Д».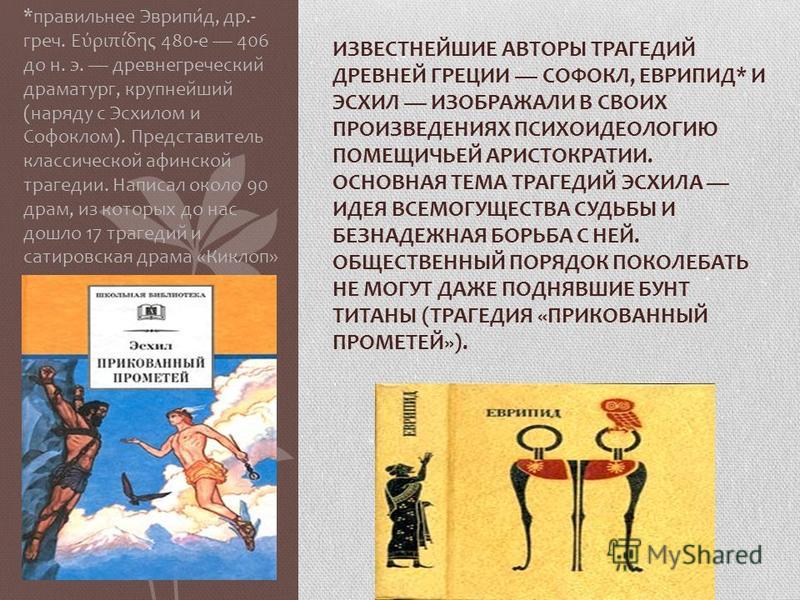 Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.
Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.
Отгадайте загадку:
Как человеку не спать 8 дней? Показать ответ>>
Как число 666 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий? Показать ответ>>
Какая водица Только для грамоты годится? Показать ответ>>
Другие значения этого слова:
- «медея»
- (около 480 до н. э. — 406 до н. э.) древнегреческий поэт-драматург, младший из трех великих афинских трагиков (Эсхил, Софокл), «Вакханки», «Геракл», «Медея», «Ипполит»
- 1 из 3 великих античн. драматургов
- Автор трагедии «Медея»
- Автор трагедии «Орест»
- Автор трагедии «Электра»
- Др.-греч. поэт-драматург
- Драматург из Эллады
- древнегреческий драматург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра»
- древнегреческий драматург, автор трагедий «Ион», «Медея», «Орест»
- Древнегреческий драматург, представитель новой аттической трагедии, в которой преобладает психология над идеей божественного рока
- древнегреческий поэт в рифму с рапидом
- Древнегреческий поэт и драматург, творчество которого сложилось в период кризиса афинской демократии
- древнегреческий поэт — драматург
- Древнегреческий поэт-драматург
- Древнегреческий поэт-драматург (480-406 до н.
 э., ‘Медея’, ‘Алкестида’, ‘Ипполит’)
э., ‘Медея’, ‘Алкестида’, ‘Ипполит’) - Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Медея
- Древнегреческий поэт-драматург, трагедия «Вакханки
- известный древнегреческий драматург
- коллега Софокла и Эсхила
- один из трех великих античных драматургов
- Этот грек написал «медею», а критики тех лет называли его «философом на сцене»
Случайный анекдот:
Один сеpый, дpугой белый — два веселых Гендальфа.
Ещё анекдоты>>
Знаете ли Вы?
Полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд, у ребенка – за 15 секунд, у подростка – за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1,5-2 тысячи раз.
Ещё факты>>
Словарь древнегреческой культуры • Arzamas
Дельфийский оракул. Роспись краснофигурного килика. Аттика, 440–430 годы до н. э. Килик — плоская чаша на ножке с двумя ручками.
Wikimedia Commons
В русском, как и во многих других языках, слово «оракул» имеет два значения: святилище, в которое обращались за прорицанием, и само прорицание. Главным богом-прорицателем в Греции считался Аполлон, затем — Зевс (Аполлон, впрочем, воспринимался как своего рода «наместник Зевса на земле», возвещающий в своих святилищах его волю). Основной целью вопрошающих было не узнать будущее, а получить разъяснения по поводу настоящего или прошлого. Причем вопросы оракулу всегда формулировались так, чтобы снизить вероятность ошибки и недопонимания. К примеру, греческий историк Ксенофонт спрашивал у Дельфийского оракула не о том, присоединиться ли ему к походу царевича Кира, а о том, каким богам принести жертву, чтобы поход прошел благополучно.
Главным богом-прорицателем в Греции считался Аполлон, затем — Зевс (Аполлон, впрочем, воспринимался как своего рода «наместник Зевса на земле», возвещающий в своих святилищах его волю). Основной целью вопрошающих было не узнать будущее, а получить разъяснения по поводу настоящего или прошлого. Причем вопросы оракулу всегда формулировались так, чтобы снизить вероятность ошибки и недопонимания. К примеру, греческий историк Ксенофонт спрашивал у Дельфийского оракула не о том, присоединиться ли ему к походу царевича Кира, а о том, каким богам принести жертву, чтобы поход прошел благополучно.
Самым древним греческим оракулом была Додона, святилище Зевса в Эпире. Согласно античной традиции, местные жрецы интерпретировали шелест листьев священного дуба Зевса — как именно, не сообщается. Существовали оракулы, основанные на принципе так называемой инкубации, когда вопрошающий проводил какое-то время в святилище в состоянии сна, или полуобморока, или транса; во сне его посещало видение, которое затем ему помогали истолковывать жрецы. Но в большинстве случаев прорицания осуществлялись посредством так называемой вдохновенной дивинации, когда жрец или жрица выступал как медиум, устами которого говорило божество.
Но в большинстве случаев прорицания осуществлялись посредством так называемой вдохновенной дивинации, когда жрец или жрица выступал как медиум, устами которого говорило божество.
Именно так прорицал самый знаменитый из всех греческих оракулов — пифó (или пифия) в святилище Аполлона в Дельфах. Ни об одном оракуле не известно так много — и в то же время ни об одном не ведется столько споров, как об этом храме на склоне горы Парнас у Кастальского источника.
Согласно дельфийскому мифу, название «пифо» происходит от имени убитого в этом месте Аполлоном дракона Пифона: тело дракона бог бросил гнить (pytho) на том самом месте, где был воздвигнут храм. Что касается названия Дельфы, миф гласит, что Аполлон, превратившись в дельфина (delphis), явился неким плывшим на корабле критянам и сделал их жрецами в своем святилище.
Основной жреческий персонал Дельф состоял из жрецов, происходивших от тех самых критян, их пяти помощников и самой прорицательницы пифии. Это была женщина местного происхождения, из простой семьи, которая после принятия жреческого сана оставалась в храме пожизненно, соблюдая обет безбрачия. В начале пифия прорицала только раз в году, но с ростом популярности святилища стала делать это каждый месяц, всегда седьмого числа, поскольку этот день считался священным днем Аполлона. Омывшись в Кастальском источнике, пифия заходила во внутреннюю закрытую часть храма (адитон), садилась на треножник (большую полукруглую закрытую чашу на высокой трехногой подставке) и, видимо, впадала в транс. В этот момент в нее «вселялся» бог Аполлон и прорицал ее устами. О природе этого транса до сих пор ведутся споры: одни исследователи считают, что транс был вызван какой-то реальной наркотической либо ядовитой субстанцией (к примеру, небольшим количеством синильной кислоты, содержащейся в лавровых листьях, которые она якобы жевала), другие, напротив, полагают, что экстатическое состояние пифии было в чистом виде автогенным. До недавнего времени ученые скептически относились к сообщениям античных авторов о том, что пифия дышала некими парами, поднимавшимися из трещины в скале, расположенной под адитоном, но недавние археологические раскопки подтвердили, что адитон находился над расщелиной, из которой поднимались пары газа этилена, обладающего сильным наркотическим действием.
Это была женщина местного происхождения, из простой семьи, которая после принятия жреческого сана оставалась в храме пожизненно, соблюдая обет безбрачия. В начале пифия прорицала только раз в году, но с ростом популярности святилища стала делать это каждый месяц, всегда седьмого числа, поскольку этот день считался священным днем Аполлона. Омывшись в Кастальском источнике, пифия заходила во внутреннюю закрытую часть храма (адитон), садилась на треножник (большую полукруглую закрытую чашу на высокой трехногой подставке) и, видимо, впадала в транс. В этот момент в нее «вселялся» бог Аполлон и прорицал ее устами. О природе этого транса до сих пор ведутся споры: одни исследователи считают, что транс был вызван какой-то реальной наркотической либо ядовитой субстанцией (к примеру, небольшим количеством синильной кислоты, содержащейся в лавровых листьях, которые она якобы жевала), другие, напротив, полагают, что экстатическое состояние пифии было в чистом виде автогенным. До недавнего времени ученые скептически относились к сообщениям античных авторов о том, что пифия дышала некими парами, поднимавшимися из трещины в скале, расположенной под адитоном, но недавние археологические раскопки подтвердили, что адитон находился над расщелиной, из которой поднимались пары газа этилена, обладающего сильным наркотическим действием.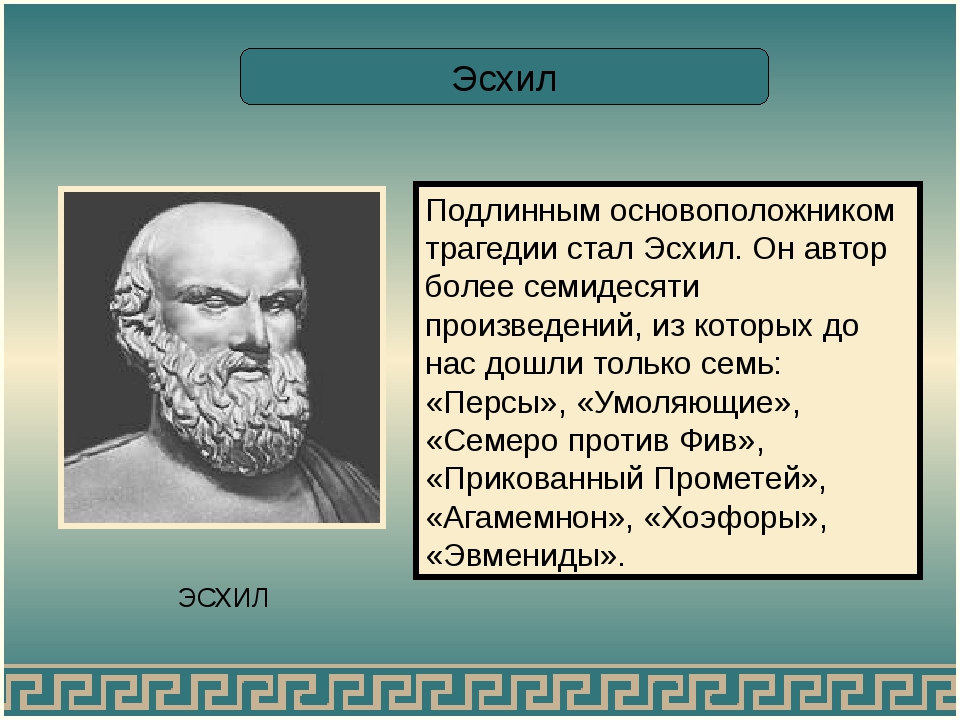
Чаще всего к Дельфийскому оракулу обращались не частные лица, а города — главным образом по вопросам, связанным с установлением культа и с основанием колоний. Видимо, расцвет Дельфийского святилища в VIII веке связан именно с греческой колонизацией — ни одна колония не основывалась без обращения в Дельфы, и Аполлон считался богом-покровителем колонистов.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ. Древняя Греция
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ
Расцвет древнегреческого театра связан с созданием важнейшего драматического жанра – трагедии. Сюжеты трагедии основывались, как правило, на мифах. В них рассказывалось о борьбе героической личности с темными силами зла за торжество добра и справедливости. Эта борьба часто заканчивается гибелью героя, но зритель в ходе представления, следя за полными трагизма событиями, переживает катарсис – глубокое эмоциональное очищение, которое возвышает человеческую душу, освобождая ее от всего мелочного, ничтожного и случайного.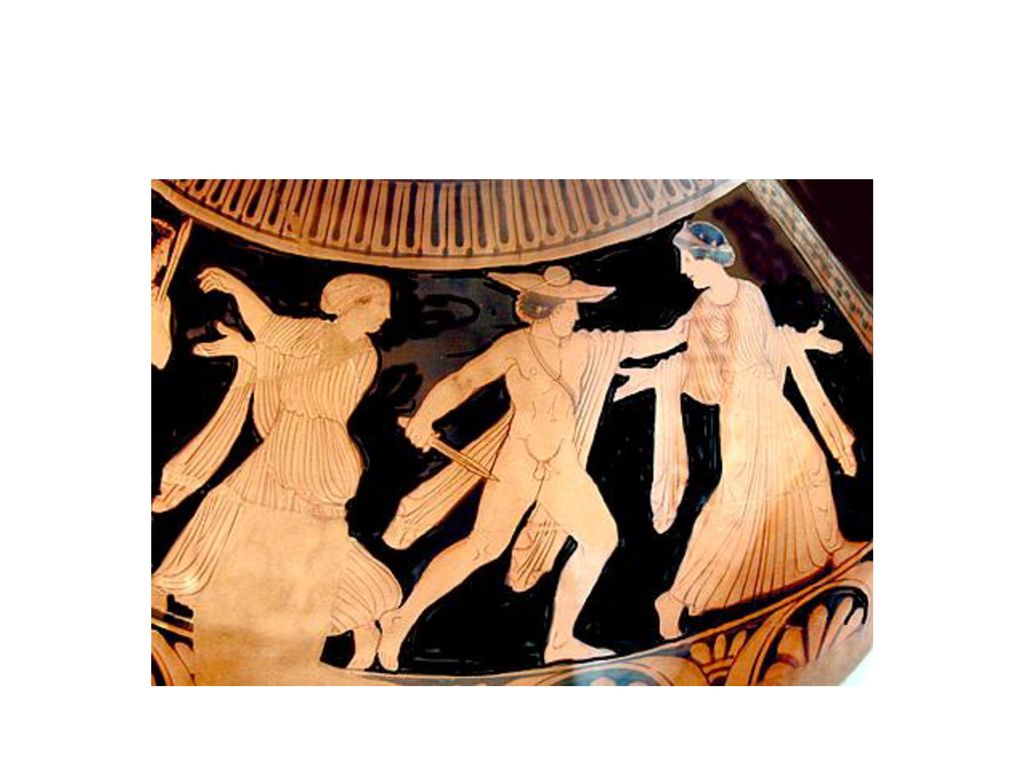 Греческая трагедия утверждает веру человека в свои силы, величие человеческого духа. Именно в трагедии с наибольшей силой и полнотой были выражены две основные темы древнегреческой культуры: тема трагичности бытия и тема героического противостояния человека враждебным силам мирового хаоса.
Греческая трагедия утверждает веру человека в свои силы, величие человеческого духа. Именно в трагедии с наибольшей силой и полнотой были выражены две основные темы древнегреческой культуры: тема трагичности бытия и тема героического противостояния человека враждебным силам мирового хаоса.
Юноша Варвар Женщина
Маски трагедии
Считается, что первым афинским драматургом был Феспид, который включил в трагедию, где поначалу действовал только хор, актера. Дальнейшее развитие трагедии связано с именами Эсхила, Софокла и Еврипида.
Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) вводит в действие второго актера, благодаря чему усиливается драматизм трагедии, а ее действие становится более динамичным. Прозванный «отцом трагедии», Эсхил написал около 90 пьес, из которых в полном виде до нас дошло лишь семь. Он 13 раз одерживал победы в состязаниях авторов пьес.
Драматург жил и творил в эпоху тяжелых, но победоносных войн с персидской державой и сам в составе афинского войска участвовал в крупнейших сражениях. Отражением этой героической эпохи стали его произведения. В трагедии «Персы», рассказывающей о разгроме греками персидского флота у острова Саламин, Эсхил прославляет победу Афин над вторгшимися врагами. Поражение царя Ксеркса, попытавшегося подчинить Элладу, является закономерной карой богов за попытку нарушить установленный ими порядок.
Отражением этой героической эпохи стали его произведения. В трагедии «Персы», рассказывающей о разгроме греками персидского флота у острова Саламин, Эсхил прославляет победу Афин над вторгшимися врагами. Поражение царя Ксеркса, попытавшегося подчинить Элладу, является закономерной карой богов за попытку нарушить установленный ими порядок.
Главный мотив творчества Эсхила – прославление мужества, патриотизма и героического самопожертвования граждан Эллады. Наиболее ярко эта тема воплощена в «Прикованном Прометее». Титан Прометей бесстрашно вступил в борьбу с богами, ради счастья людей похитив огонь с небесного алтаря и передав его землянам. Прометей стал символом несгибаемого борца против тирании, воплощенной в образе Зевса, олицетворением разума, побеждающего власть тьмы и несущего человечеству прогресс. Воспевая свободную творческую личность, Эсхил прославлял гражданина афинского полиса. Мифологические образы, утверждающие веру в справедливость божественного порядка, Эсхил переосмысливает и наполняет гражданским звучанием.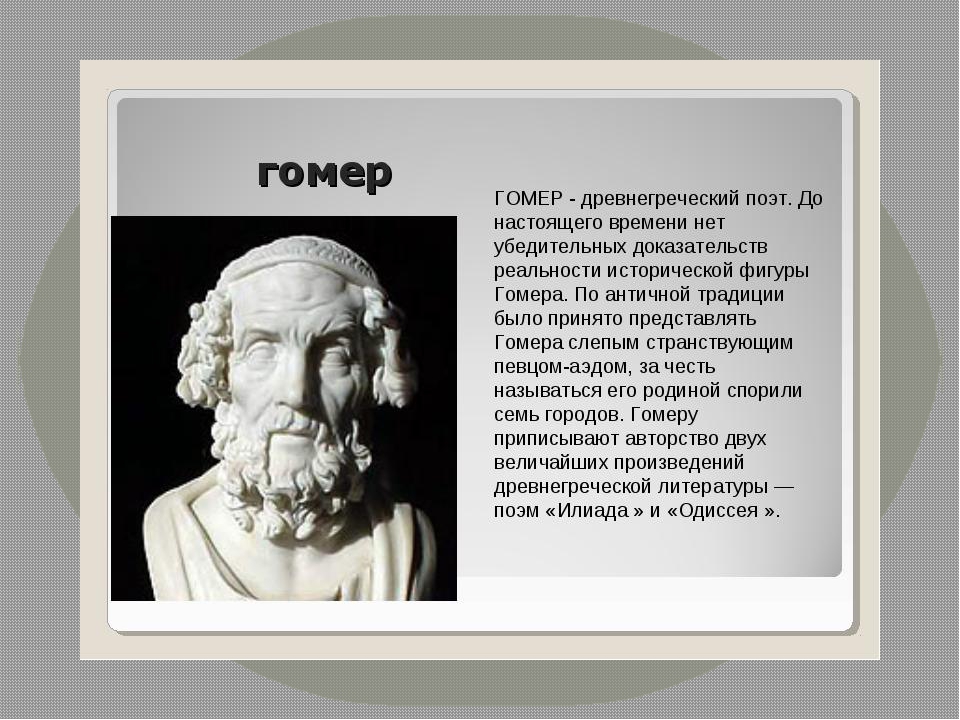
В трилогии «Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Евмениды») повествуется о событиях микенского времени. На примере судьбы царского рода Атридов Эсхил показывает, что каждое преступление неминуемо влечет за собой возмездие и порой расплачиваться приходится потомкам. Мифологический сюжет воспроизводил острую борьбу идей, знакомую зрителям. Прославление ареопага, носителя аристократических традиций, указывало на неприятие драматургом радикальных демократических преобразований, которые происходили в это время в афинском полисе.
Софокл
Новый шаг в развитии греческого театра связан с творчеством Софокла (ок. 496—406 до н. э.). Введя в пьесу третьего актера, он усложнил фабулу трагедии, усилил драматическое напряжение действия, что помогло лучше раскрыть внутренний мир героя. Все произведения великого драматурга (а из 123 произведений до нас дошло только семь) пронизаны сознанием величия и силы человеческого духа. В своих знаменитых трагедиях «Царь Эдип», «Антигона» и «Электра» Софокл разрабатывает тему судьбы, которая неотвратимо управляет жизнью человека.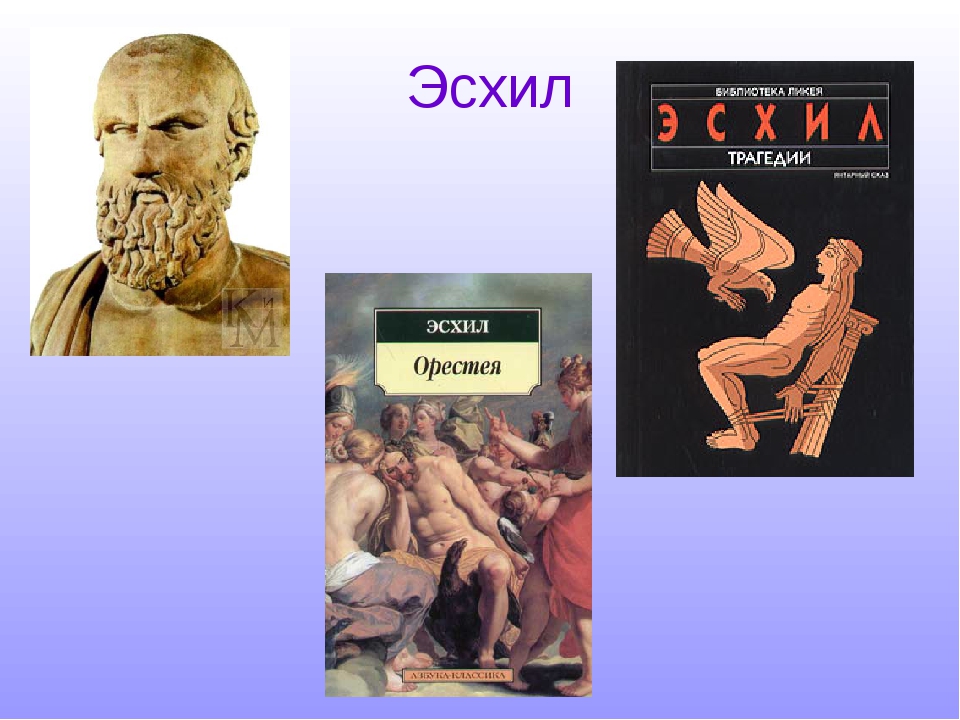 Но герои его трагедий не были безвольной игрушкой в руках богов. Они наделены волей и осознают свою ответственность за совершаемые поступки. Софокл стремился показать людей такими «какими они должны быть»: высоконравственными, достойно переносящими невзгоды, осознающими свое место в обществе и свой долг перед ним и перед самим собой. В творчестве драматурга нашли отражение духовная атмосфера и художественные идеалы, царившие в Афинах эпохи расцвета демократии. Идеи гуманизма находили горячий отклик у сограждан, которые в состязаниях 24 раза присуждали победу Софоклу.
Но герои его трагедий не были безвольной игрушкой в руках богов. Они наделены волей и осознают свою ответственность за совершаемые поступки. Софокл стремился показать людей такими «какими они должны быть»: высоконравственными, достойно переносящими невзгоды, осознающими свое место в обществе и свой долг перед ним и перед самим собой. В творчестве драматурга нашли отражение духовная атмосфера и художественные идеалы, царившие в Афинах эпохи расцвета демократии. Идеи гуманизма находили горячий отклик у сограждан, которые в состязаниях 24 раза присуждали победу Софоклу.
Еврипид
Третьим великим драматургом Греции эпохи классики был Еврипид (ок. 480—406 до н. э.), которого Аристотель назвал «наиболее трагичным поэтом». Современники сдержанно относились к его творчеству: победу в состязаниях ему присудили только пять раз, причем в последний раз – посмертно. Из 92 драматических произведений Еврипида до нас дошло 17 трагедий и одна сатирова драма. Во многом это было связано с тем, что он писал в эпоху кризиса полисной идеологии. В своих произведениях греческий драматург чутко откликался на новые веяния, на поиск новых духовных ценностей и первоначально не был понят современниками. Творчеству Еврипида чужды идеальные образы. Он изображал людей такими, «какими они были на самом деле», с их страстями, страданиями, радостями и печалями. Его герои предстают реальными людьми, переживающими глубокие человеческие драмы.
В своих произведениях греческий драматург чутко откликался на новые веяния, на поиск новых духовных ценностей и первоначально не был понят современниками. Творчеству Еврипида чужды идеальные образы. Он изображал людей такими, «какими они были на самом деле», с их страстями, страданиями, радостями и печалями. Его герои предстают реальными людьми, переживающими глубокие человеческие драмы.
В трактовке Еврипида судьба людей определяется не божественной волей, а чувственными порывами и борьбой страстей человека. В своей самой прославленной трагедии «Медея» драматург мастерски показал душевные муки покинутой мужем женщины. В любящей матери и жене, оскорбленной в своих чувствах, вспыхивает безумная жажда мести. И она убивает не только возлюбленную своего бывшего мужа Ясона и ее отца, но и своих детей. Судьбы героев трагедий Еврипида («Электра», «Гекуба», «Ипполит», «Орест», «Ифигения в Авлиде» и др.) заставляли зрителей размышлять над своим отношением к жизни и людям. Творчество Еврипида оказало влияние на развитие мировой драматургии.
Огромной популярностью в Греции пользовалась комедия (букв. – песнь во время шэмоса), которая зародилась из шуточных и порой фривольных песен, исполнявшихся поселянами во время комоса (т. е. шествия) на Сельских Дионисиях. В Афинах с ее свободой высказывания мнений комедия становится политическим жанром. Богатейший материал для сюжетов давала сама жизнь с ее открытой политической и идейной борьбой. Расцвет аттической комедии связан с творчеством Аристофана (ок. 445 – ок. 385 до н. э.). Им было написано не менее 40 комедий, но до нас дошло только 11 пьес.
В произведениях Аристофана нашли отражение все острые проблемы того времени. Но это было время долгой Пелопоннесской войны, и главной для драматурга стала тема мира. В комедии «Ахарняне» измученный тяготами войны афинский земледелец Дикеополь (т. е. Справедливый гражданин) заключает для себя мир, после чего предается радостной и спокойной жизни, в то время как на хвастливого воина Ламаха обрушиваются одни невзгоды. В пьесе «Мир» осмеяна военная партия, от политики которой страдают рядовые граждане. Герой комедии Тригей (т. е. Виноградарь) верхом на огромном навозном жуке отправляется на Олимп и освобождает из заточения богиню мира, которая приносит в Афины мирную жизнь. Жители бурно радуются наступившему счастью, лишь наживавшиеся на войне оружейники впадают в уныние. Необычно освещена тема мира в «Лисистрате» – против войны протестуют афинские женщины, требующие от мужей прекращения военных действий и возвращения домой.
В пьесе «Мир» осмеяна военная партия, от политики которой страдают рядовые граждане. Герой комедии Тригей (т. е. Виноградарь) верхом на огромном навозном жуке отправляется на Олимп и освобождает из заточения богиню мира, которая приносит в Афины мирную жизнь. Жители бурно радуются наступившему счастью, лишь наживавшиеся на войне оружейники впадают в уныние. Необычно освещена тема мира в «Лисистрате» – против войны протестуют афинские женщины, требующие от мужей прекращения военных действий и возвращения домой.
Объектом сатиры комедиографа были и софисты (к ним Аристофан причислял и Сократа), которые пытались утвердить новые принципы воспитания («Облака»), и демагоги, вовлекающие афинян в рискованные авантюры («Птицы»), и сочинители трагедий (в «Лягушках» интригуют друг против друга Эсхил и Еврипид), и присущая афинянам мания сутяжничества («Осы»). Не было такой стороны жизни афинского общества, такой актуальной проблемы, на которую не откликнулся бы своей смелой сатирой Аристофан. Одна из вершин мировой драматургии, его комедии стали образцом для подражания в последующие эпохи.
Одна из вершин мировой драматургии, его комедии стали образцом для подражания в последующие эпохи.
Театр в Афинах был важнейшим институтом полисной жизни. Через художественный образ и эмоционально-чувственное восприятие он активно утверждал античные гуманистические ценности и демократический образ мышления, помогал зрителям сознательно определять отношение к важнейшим вопросам бытия.
Источники
По истории греческого театра и Великих Дионисий сохранились многочисленные источники, которые позволяют восстановить многие реалии и всесторонне рассмотреть феномен древнегреческого театра. Помимо пьес, которые дошли до нас как целиком, так и в многочисленных отрывках, важную роль играют эпиграфические источники – надписи. Важнейшими из них являются «Паросский мрамор», содержащий сведения о зарождении театральных представлений в Афинах, и «Фасты» – список победителей на празднествах в честь Дионисия.
В речах ораторов Демосфена, Эсхина, Исократа, Лисия, где отразились многие аспекты бурной социально-политической жизни полиса, также есть сведения о празднествах и театральных представлениях.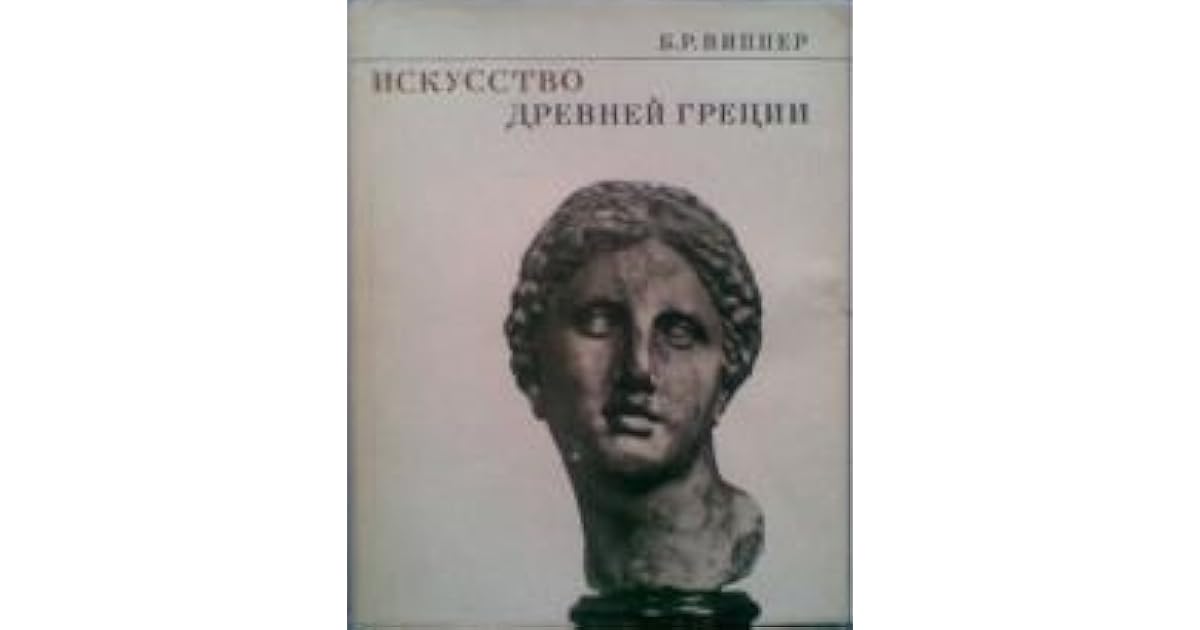 Обширные сведения о драматургах и роли театра в жизни афинян содержат «Описание Эллады» Павсания с его экскурсами в прошлое, а также сочинения Афинея и Диогена Лаэртского. О театре как духовном феномене написано в трактатах Платона и Аристотеля. Ряд интересных сведений приводится в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.
Обширные сведения о драматургах и роли театра в жизни афинян содержат «Описание Эллады» Павсания с его экскурсами в прошлое, а также сочинения Афинея и Диогена Лаэртского. О театре как духовном феномене написано в трактатах Платона и Аристотеля. Ряд интересных сведений приводится в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Дионис выбирает Эсхила Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
Дионис выбирает Эсхила
Л.Б. Поплавская
Статья посвящена анализу раннего этапа творчества одного из первых трагиков греческого театра.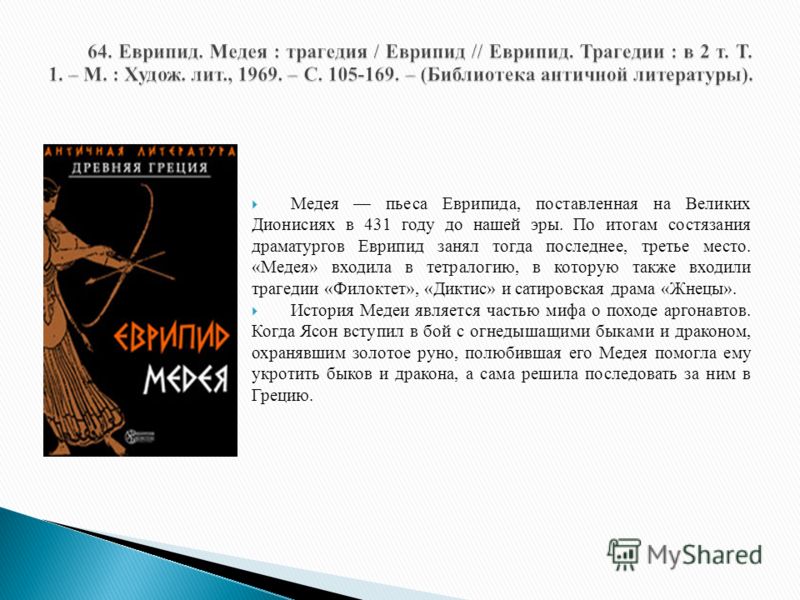 Эсхила называют отцом трагедии, т.к. он преобразовал первоначальное театральное действие с одним актером и кантатой хора, вышедшее из дифирамбического жанра торжественной хоровой лирики, в полноценную драму. Эсхил первым осознал важность наличия драматического конфликта для показа на сцене героических мифических преданий. Он ввел второго актера, чтобы этот показ стал возможным. Драматический конфликт завязывался и разрешался на глазах у зрителей, вовлекал их в происходящее действие. Этим Эсхил давал зрителям возможность сопереживания героям трагедии при их раздумьях и сомненьях перед совершением поступка, известного из мифической истории. Название статьи о выборе Эсхила богом Дионисом, которому были посвящены театральные постановки на празднике Великие Дионисии в Афинах, отталкивается от комедии Аристофана «Лягушки». Эту комедию считают первым опытом литературной критики в Древней Греции. В агоне комедии соревнуются за право быть первым трагиком Греции Эсхил и Еврипид, находящиеся в Аиде — царстве мертвых.
Эсхила называют отцом трагедии, т.к. он преобразовал первоначальное театральное действие с одним актером и кантатой хора, вышедшее из дифирамбического жанра торжественной хоровой лирики, в полноценную драму. Эсхил первым осознал важность наличия драматического конфликта для показа на сцене героических мифических преданий. Он ввел второго актера, чтобы этот показ стал возможным. Драматический конфликт завязывался и разрешался на глазах у зрителей, вовлекал их в происходящее действие. Этим Эсхил давал зрителям возможность сопереживания героям трагедии при их раздумьях и сомненьях перед совершением поступка, известного из мифической истории. Название статьи о выборе Эсхила богом Дионисом, которому были посвящены театральные постановки на празднике Великие Дионисии в Афинах, отталкивается от комедии Аристофана «Лягушки». Эту комедию считают первым опытом литературной критики в Древней Греции. В агоне комедии соревнуются за право быть первым трагиком Греции Эсхил и Еврипид, находящиеся в Аиде — царстве мертвых.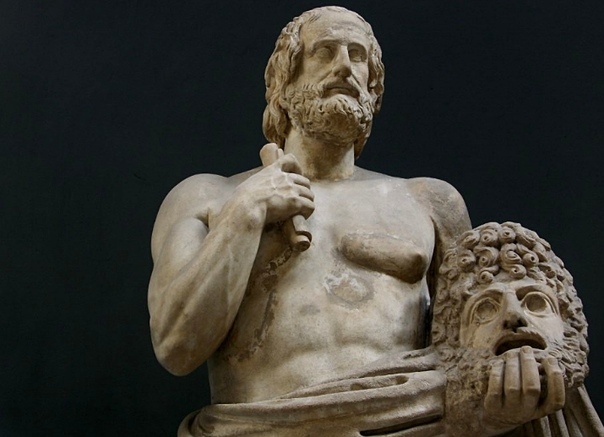 Дионис озабочен отсутствием театрального репертуара на своем празднике, т.к. великие трагики уже умерли. Он спускается в Аид, чтобы вернуть душу Еврипида, но отдает первенство Эсхилу и выбирает его. Дионис признает воспитательное значение его трагедий «Персы» и «Семеро против Фив». Героика и патриотизм трагедий Эсхила необходимы гражданам полиса. Обращение к комедии Аристофана вызвано цитатой из нее в анонимной биографии Эсхила, дошедшей в его рукописях. Биограф перечисляет заслуги этого драматурга в развитии аттического театра и приводит слова Диониса к Эсхилу, названному «первым из эллинов» (Аристофан «Лягушки», 1004-1005). По мнению Диониса как героя комедии, а за ним стоит выбор Аристофана, трагедии Эсхила выражают моральные ценности целого поколения афинян, отстоявших независимость родины во время греко-персидской войны. Для этого поколения граждан имеют непреходящую ценность идеи добра и справедливости, санкционированные, по представлению греков, богами. Автор статьи останавливается на одной из самых ранних трагедий Эсхила «Умоляющие».
Дионис озабочен отсутствием театрального репертуара на своем празднике, т.к. великие трагики уже умерли. Он спускается в Аид, чтобы вернуть душу Еврипида, но отдает первенство Эсхилу и выбирает его. Дионис признает воспитательное значение его трагедий «Персы» и «Семеро против Фив». Героика и патриотизм трагедий Эсхила необходимы гражданам полиса. Обращение к комедии Аристофана вызвано цитатой из нее в анонимной биографии Эсхила, дошедшей в его рукописях. Биограф перечисляет заслуги этого драматурга в развитии аттического театра и приводит слова Диониса к Эсхилу, названному «первым из эллинов» (Аристофан «Лягушки», 1004-1005). По мнению Диониса как героя комедии, а за ним стоит выбор Аристофана, трагедии Эсхила выражают моральные ценности целого поколения афинян, отстоявших независимость родины во время греко-персидской войны. Для этого поколения граждан имеют непреходящую ценность идеи добра и справедливости, санкционированные, по представлению греков, богами. Автор статьи останавливается на одной из самых ранних трагедий Эсхила «Умоляющие». Конфликт драмы заключается в выборе позиции главного героя — царя Аргоса Пеласга, должен ли он защищать дочерей царя Даная от притязаний их женихов. В статье рассматриваются различные версии мифической истории о странствиях Ио и судьбе дочерей Даная. Анализируются лексические и поэтические средства, используемые в хоровых партиях этой трагедии. Эсхил в образной системе опирается на поэтику и стилистику дифирамбической кантаты. В хоровых песнях-плачах дочерей Даная он использует мотивы птиц и переплетает их с известными мифами о превращении героев в различных птиц. В поэтике Эсхила присутствуют маринистические мотивы. Поскольку в ранней трагедии еще мало возможностей для показа действия, Эсхил активно привлекает стихомифию, когда герои обмениваются од-
Конфликт драмы заключается в выборе позиции главного героя — царя Аргоса Пеласга, должен ли он защищать дочерей царя Даная от притязаний их женихов. В статье рассматриваются различные версии мифической истории о странствиях Ио и судьбе дочерей Даная. Анализируются лексические и поэтические средства, используемые в хоровых партиях этой трагедии. Эсхил в образной системе опирается на поэтику и стилистику дифирамбической кантаты. В хоровых песнях-плачах дочерей Даная он использует мотивы птиц и переплетает их с известными мифами о превращении героев в различных птиц. В поэтике Эсхила присутствуют маринистические мотивы. Поскольку в ранней трагедии еще мало возможностей для показа действия, Эсхил активно привлекает стихомифию, когда герои обмениваются од-
ним или двумя стихами. Это создает экспрессию и напряженность, убыстряет действие трагедии. Именно в ранних трагедиях, еще тесно связанных с хоровой греческой лирикой, происходит выбор трагиком верных поэтических средств для создания образа героя. Тем самым закладываются основы для драматического театра Древней Греции — будущего театра Европы.
Тем самым закладываются основы для драматического театра Древней Греции — будущего театра Европы.
This article is devoted to the analysis of the early stage work of one of the first tragedians of the Greek theatre. Aeschylus is called the father of tragedy since he transformed the original theatrical performance with one actor and the cantata choir, released solemn choral lyric poetry from the dithyrambic genre to a full-fledged drama. Aeschylus was first to realize the importance of a dramatic conflict for the show on the stage of the heroic mythical legends. He introduced a second actor to make this show possible. The dramatic conflict was initiated and resolved in front of the audience, involved them in the action. Aeschylus gave the audience the possibility of empathy to heroes of the tragedy in their thoughts and doubts before they act the way it was known from the mythical stories. The title of the article when Aeschylus was chosen by God Dionysus to whom the plays were devoted on the Great Dionysus feast in Athens, proceeds from the comedy of Aristophanes «The Frogs. » This Comedy is considered to be the first experience of literary criticism in Ancient Greece. In the agon of the comedy, Aeschylus and Euripides are in Hades, the realm of the dead, and are competing for the right to be the first Greek tragedian. Dionysus is concerned about the lack of the theatrical repertoire at his feast since the great tragedians have already died. He descends into Hades to bring back the soul of Euripides but gives the primacy to Aeschylus and chooses him. Dionysus recognizes the educational significance of his tragedies «The Persians» and «Seven against Thebes». The heroism and patriotism of the tragedies of Aeschylus are necessary for citizens of the Polis. The address to the comedy of Aristophanes is caused by a quotation from it in the anonymous biography of Aeschylus in his manuscripts. The biographer lists the merits of this playwright in the development of the Attic theater and leads the words of Dionysus to Aeschylus calling him «the first of the Hellenes» (Aristophanes «The Frogs», 1004-1005). According to Dionysus as a hero of the comedy as well as the choice of Aristophanes, the tragedy of Aeschylus expresses the moral values of a generation of Athenians who defended the independence of the Motherland during the Greek-Persian war. For this generation of citizens, the idea of kindness and justice has the enduring value and is sanctioned, as the Greeks believed, by the gods. The author focuses on one of the earliest tragedies of Aeschylus «The Suppliants». The conflict of the drama lies in the choice of the position of the main hero Pelasgos, king of Argos, whether he should defend king Danaus’ daughters from the claims of their suitors. The article examines various versions of the mythical story of Io wanderings and the fate of the Danaides. The author analyzes lexical and poetic means used in choral parties of this tragedy. Aeschylus in the image mode leans on the poetics and stylistics of dithyrambic cantatas. In choral songs-laments of the Danaides, he uses tunes of birds and intertwines them with well-known myths about the transformation of heroes into different birds. In the poetics of Aeschylus, the seascape motives are presented. Since the early tragedy has still few opportunities to show the action, Aeschylus actively involves stichomythia when the characters say one or two
» This Comedy is considered to be the first experience of literary criticism in Ancient Greece. In the agon of the comedy, Aeschylus and Euripides are in Hades, the realm of the dead, and are competing for the right to be the first Greek tragedian. Dionysus is concerned about the lack of the theatrical repertoire at his feast since the great tragedians have already died. He descends into Hades to bring back the soul of Euripides but gives the primacy to Aeschylus and chooses him. Dionysus recognizes the educational significance of his tragedies «The Persians» and «Seven against Thebes». The heroism and patriotism of the tragedies of Aeschylus are necessary for citizens of the Polis. The address to the comedy of Aristophanes is caused by a quotation from it in the anonymous biography of Aeschylus in his manuscripts. The biographer lists the merits of this playwright in the development of the Attic theater and leads the words of Dionysus to Aeschylus calling him «the first of the Hellenes» (Aristophanes «The Frogs», 1004-1005). According to Dionysus as a hero of the comedy as well as the choice of Aristophanes, the tragedy of Aeschylus expresses the moral values of a generation of Athenians who defended the independence of the Motherland during the Greek-Persian war. For this generation of citizens, the idea of kindness and justice has the enduring value and is sanctioned, as the Greeks believed, by the gods. The author focuses on one of the earliest tragedies of Aeschylus «The Suppliants». The conflict of the drama lies in the choice of the position of the main hero Pelasgos, king of Argos, whether he should defend king Danaus’ daughters from the claims of their suitors. The article examines various versions of the mythical story of Io wanderings and the fate of the Danaides. The author analyzes lexical and poetic means used in choral parties of this tragedy. Aeschylus in the image mode leans on the poetics and stylistics of dithyrambic cantatas. In choral songs-laments of the Danaides, he uses tunes of birds and intertwines them with well-known myths about the transformation of heroes into different birds. In the poetics of Aeschylus, the seascape motives are presented. Since the early tragedy has still few opportunities to show the action, Aeschylus actively involves stichomythia when the characters say one or two
poems. This method creates expression and tension, accelerates the action of the tragedy. Namely in his early tragedies, more closely related to the Greek choral lyric, the tragedian chooses true poetic means to create an image of the hero and thereby lays the foundations for the drama theatre of Ancient Greece as the future theatre of Europe.
Биографий поэтов в античности вплоть до конца классического периода никто не писал. Рукописный текст драматических произведений сопровождался тем, что называли таюВеац, т.е. «основание» для написания драмы. Помимо пересказа мифа, который лег в основу литературного произведения, в нем обсуждалось содержание драмы, ее основные особенности, иногда указывалось, были ли у автора предшественники, а также хронологические данные первой постановки, что было известно из дидаскалии.упца, т.е. «помимо хорегии» — официальных обязательных затрат хорега.
Всем известно, что отцом трагедии называют Эсхила (525-456 гг. до н.э.). Но ведь он не был действительно первым драматическим поэтом. Первая трагедия была поставлена в Афинах на празднике Великие Дионисии при тиране Писистрате в 534 г. до н.э. Точнее, постановка произошла между 536 и 534 гг., это явно из Паросской хроники и подтверждается словарем Суда. Награду получил Феспид. Его преемниками были Херил и Фриних. Херил представлял сатировскую драму и выступал по времени между Феспидом и Эсхилом, а Фриних
(540-470 гг. до н.э.), по свидетельству Суды, одержал первую победу на 67-й Олимпиаде (512-509 гг. до н.э.). Он был самым успешным в афинском театре до 480 г. Даже Эсхил заимствует сюжет своей трагедии «Персы» (462 г.) из «Финикиянок» Фриниха (476 г.). Хотя известны немногие фрагменты из его произведений и заглавия некоторых трагедий, это очень мало. — «отвечающий». Он вступал в разговор, советовался, спрашивал, сам реагировал на вопросы хора, т.е. общался с ним через корифея-посредника, больше было не с кем. Наедине с собой человек, а в драме герой, не станет спорить и доказывать свою точку зрения. Некому доказывать. Первого актера ввел Феспид, иначе драма никогда бы не состоялась в качестве показа. Этим актером был он сам, затем Эсхил также играл в своих трагедиях, а Софокл только в молодые годы. Впоследствии от этого совсем отказались, ведь актеров можно было нанять за деньги. Это становится профессией. Эсхил первым догадался, что его герою непременно нужен alter ego, собеседник, не всегда согласный с его позицией, а возможно, и соперник, просто антагонист. Когда Эсхил вводит второго актера, то партии хора приходится сокращать. Это происходит не вдруг и не сразу. Хор обязательно должен быть участником, действующим лицом не только в силу традиции, ведь это еще наполовину песенный жанр, но и потому, что впервые именно Эсхилом осознается то, что мы называем «трагическим конфликтом». Конфликт должен разрешиться на глазах у зрителей, быть оценен другими людьми, здесь важно мнение хора участников. Его надо обыграть, один человек это сделать не может. Иногда и двух героев уже недостаточно. Пафос, торжественность и драматическая напряженность сложившегося конфликта — вот что отличает Эсхила от его предшественников и выделяет из современников. Без этого драматическое
действие не может стать трагедией. Как это достигается, если персонажи трагедии, по-прежнему, герои мифов? Но миф только канва трагедии. Эсхил первым начинает переосмыслять героические предания. Миф называл имя героя, рассказывал о том, что с ним произошло. Но именно трагик должен оценить происходящее. Эсхил первым понимает необходимость дать понять зрителю, что чувствовал и о чем думал герой, прежде чем принять окончательное решение и совершить свой поступок. Тот самый, о котором с детства знал каждый зритель, ведь греки вырастали на мифических преданиях, считая их своей подлинной историей1.
Эсхилу как первопроходцу греческой трагедии во многом было труднее, чем Софоклу и Еврипиду: надо было сломить внутренний консерватизм зрителей, не привыкших видеть такие постановки, и изобрести наиболее верные поэтические средства, которые помогли бы им поверить в правдивость мифического героя на сцене и в правоту авторской позиции трагика. Эсхил первым начинает вводить в мифические события новые мотивы, что позже будет развито Ев-рипидом. Для этого он создает новую сценическую обстановку, и героические предания приходят из лирической поэзии, основанной на фольклорной песенной традиции.
В данной работе мы будем разбирать мотивы и поэтику только одной трагедии Эсхила «Умоляющие» как самой ранней из дошедших его драм и попытаемся на ее тексте показать особенности становления авторской индивидуальности первого признанного трагика.
Главные источники для жизнеописания Эсхила и объяснения его поэтических инноваций в трагедии — это анонимная биография, сохранившаяся в его рукописях, и статья в словаре Суда s.ои) приписывает Эсхилу 13 побед. М. Круазе считал, что это должно составлять не менее 52 увенчанных пьес2, исходя из того, что всего им было написано около 70 трагедий и 20 сатировских драм. Но мы располагаем только семью трагедиями и примерно 400 фрагментами из других произведений. Жизнеописание Эсхила очень лаконично: после имени, рода, звания в пятой строке очень категорично с применением слова «весьма» подчеркивается его превосходство над другими трагическими поэтами и конкретно указывается, по каким пунктам он лучше многих. Вот начало «Жиз-
1 Поплавская Л.Б. История античной литературы. — СПб.: СПбГУ. Филологический факультет, 2010. — С. 33-39.
2 Круазе А. и М. История греческой литературы // под ред. и с предисл. С.А. Же-белева. Изд. 2-е. — Петроград, 1916. — С. 244. Новое издание: Издательство СПбГУ, под ред. С.И. Межерицкой, 2008. — С. 211.
неописания Эсхила»: «Трагик Эсхил был родом афинянин из дема Элевсина, брат Кинегира, из рода Эвпатридов. той хорой оецуотпта). В подтверждение этого он приводит стихи Аристофана, не ссылаясь на конкретную комедию. Мы знаем, что это цитата из комедии «Лягушки» — род первой литературной критики, ведь на сцене разбираются достоинства двух театральных поэтов. В агоне комедии идет соревнование Эсхила и Еврипида. Кто из них нужнее театральным зрителям — современникам Аристофана? Чью тень выведет из Аида Дионис, который в качестве директора театра остался без репертуара, ведь трех знаменитых авторов трагедий (Эсхил, Софокл, Еврипид) уже нет в живых, а трагический поэт Агафон уехал из Афин в Македонию к царю Архелаю? В царстве Аида, куда спускается Дионис с рабом Ксанфием за автором трагедий, они слышат «шум и крик ужаснейший»1. Эак — слуга бога подземного царства Плутона, так он представлен среди действующих лиц комедии (а в мифологии Эак вместе с Миносом и Радамантом — судья душ умерших), говорит, что это Еврипид ссорится с Эсхилом (758). Ведь для всех искусств в Аиде установлен обычай: кто докажет, что он первый в своем мастерстве, займет трон рядом с Плутоном и будет пользоваться даровым столом в подземном Пританее (761-764). Это параллель к земным почестям. В Афинах героев и выдающихся граждан кормили на государственный счет обедами там, где заседали пританы — дежурные члены Совета 500. Эсхил был первым из великих трагиков, он старший по возрасту и первым умер. Эак говорит, что «трагическим престолам он давно владел как величайший мастер» (769-770).
1 Здесь и далее использован перевод с древнегреческого А.И. Пиотровского в издании: Аристофан. Избранные комедии / предисл. В.Н. Ярхо, коммент. А.И. Пиотровского и В.Н. Ярхо. — М.: Худож. лит., 1974.
Когда в царство Аида сошел Еврипид, то он был признан первым душами тех маргиналов, которых много и в подземном царстве. Мастерство Еврипида признали воры, налетчики, отцеубийцы и взломщики. Тогда Еврипид занял трон Эсхила (771-778). Народ требует справедливого суда, пусть каждый докажет свое мастерство (780). Раб Ксанфий удивляется дважды. Во-первых, почему Эсхил не нашел союзников? Ответ Эака: много подлецов и мало честных, как на земле, так и здесь в Аиде. Во-вторых, почему Софокл не потребовал себе престола первого трагика Греции (782-787). Репутация Софокла как автора «гармонии и ясной уверенности» не изменяет ему здесь. Эак трогательно рассказывает, что тот протянул руку Эсхилу и поцеловал его, как только попал в Аид. Эсхил сажает Софокла на трон рядом с собой. Впрочем, Софокл тоже согласен принять участие в агоне по очереди. Но если победит Эсхил, он не тронется с места, если же Еврипид, то Софокл будет состязаться с ним (788-794). Эак говорит Ксанфию (795-800), что музыку, т.е. мусическое искусство, будут взвешивать на таланты. Греческий талант — это и мера веса, и определенная сумма денег (60 мин). Ксанфий удивляется, неужели на безмене взвесят трагедию. Эак объясняет, что иначе нельзя, ведь будут «гири слов и слитки изречений». Еврипид запальчиво клянется, что трагедии Эсхила разберет по словечку (801-801). Судьей должен быть Дионис. Эсхил не хочет препираться в споре с Еврипидом, т.к. его поэзия не умерла вместе с ним (868-869), а у Еврипида она скончалась вместе с автором. Защищаясь, Еврипид перечисляет свои заслуги и недостатки трагедий противника. Она «распухла от пышных слов, раздута бреднями, истертыми словами и мыслями» (939-940). Упрек Эсхилу и в том, что у него есть лица без речей, фигуры не говорящие до своей поры. Хор уже «топочет землю и пробубнит четыре песни, а актеры все без слов» (913). Только его герой (например, Ниоба — 920) откроет рот помимо хора, тут и драме конец. В противоположность этому Еврипид хвалится тем, что его герой «не городит вздора», а как выйдет, сразу расскажет о своем происхождении.
Все персонажи имеют свои реплики. «Я научил красноречию» (954). На самом деле Аристофан употребляет глагол, означающий «научил болтать». Как обычно, в агоне хор разделяется, чтобы поддерживать враждующих антагонистов, и второе полухорие в антоде советует Эсхилу не отвечать бранью на брань (992-1004). После пляски хора Дионис так обращается к Эсхилу: «О ты, первый из эллинов, нагромоздивший важные башни из слов и украсивший (ими) трагическую лиру» (1004-1005). Именно этот отрывок из комедии Аристофана «Лягушки» для оценки творчества Эсхила приводит его рукописное
жизнеописание. С него мы начали анализировать творчество трагика в первом опыте античной литературной критики. То, что, по-мнению Еврипида, было сценическим недостатком трагедии Эсхила, в устах Диониса и в оценке самого Аристофана стало достоинством. Тот факт, что биограф только называет имя Аристофана, не ссылаясь на конкретную комедию, показывает, что «Лягушки» были популярны. Всем был известен и финал этой комедии. Хотя Дионис спускается в Аид за Еврипидом, т.е. его пьесами, ибо нет праздника Великие Дионисии без театрального агона, выбирает он все-таки Эсхила как первого и непревзойденного мастера. Ведь Эсхил стоит за воспитательное значение театра. Это школа для взрослых. Именно трагедии «Персы» и «Семеро против Фив» способствуют гражданству и патриотизму, надо отстаивать полисные идеалы. А Еврипид, по-мнению Аристофана, противодействует основам полисной морали, значит, может привести к упадку нравственности. В стихе 880 Эсхил обвиняет Еврипида, что он внес в театральное искусство «нечестивые браки», т.е. любовные связи. Имеется в виду не только известная нам трагедия Еврипида «Ипполит», где мачеха Федра любит своего пасынка, но и не дошедшая до нас трагедия «Эол», там изображена страсть брата и сестры. Слово «первый» по отношению к Эсхилу сказано с Аристофаном и повторено анонимным биографом отнюдь не во временном плане. Эсхил не был первым трагиком.
Как уже было сказано, одним из основателей трагедии считается его старший современник Фриних, автор трагедий «Финикиянки» и «Взятие Милета» (около 540-470 гг. до н.э.). В эпирреме комедии «Лягушки» (910) Еврипид ополчается и на Фриниха (910), говоря, что Эсхил подражает ему, заимствуя «раздутые глупости». Еврипид с пристрастием комментирует то, что Фриних ввел одного актера в трагедию, едва вышедшую из дифирамба. «Сажает в одиночку он Ахилла иль Ниобу» (912). А тот сидит и молча, ждет, когда можно будет выступить с репликой после хора. Однако актер ждет время своей реплики по известной причине. Все внимание отдано хору, хор выступает 4 раза. Вслед за Фринихом, по мнению Еврипида, Эсхил очень отвлеченно изображает героев, царей и полководцев, а вот его (Ев-рипида) персонажи реальны, они пришли из быта. В стихах 949-950 перечисляются все возможные участники действия: женщины и девушки, рабы и господа, даже старухи. В антэпирреме (1008) Эсхил спрашивает Еврипида, за что надо хвалить поэта. И Еврипид признает, что за правдивые речи, которые делают граждан разумнее и лучше (1009). Эсхил передает Еврипиду граждан, «дышащих отвагой и с мужеством в сердце». Но как он достиг этого? «Расскажи нам, — просит
уже и Еврипид, — как ты сделал сограждан достойными» (1019). Дионис присоединяется к этой просьбе. Они слышат от Эсхила, что он создал «драму, полную Ареса», т.е. духа войны (1021). Эсхил сам называет свои трагедии «Семеро против Фив» и «Персы» (1023-1026). Еще Гомер прославлял битвы, следуя ему, Эсхил сотворил величавых героев, с душой, как у льва — Патроклов и Тевкров (1041)1. «А как же любовь, тебе незнакома Афродита?», — восклицает Еврипид (1045). «Зато ты уж слишком знаком с нею и пришиблен этой любовью», -парирует Эсхил. Дионис призывает в свидетели богов, что все подлое о женщине выдумал Еврипид. Здесь явно намек на личную жизнь поэта, как это принято в комедиях2. Еврипид оправдывается, чем же его Сфенебея, влюбленная в гостя Беллерофонта из не дошедшей до нас комедии «Сфенебея», и его Федра повредили нравственности, ведь это правда жизни.
Эсхил согласен, что это правда, но зачем она? Такую правду трагик должен скрывать от зрителя, а не показывать в театре толпе на забаву. Надо учить добру. Детей в школе учит учитель, а в театре взрослых учит поэт — автор наставительных пьес. Аристофан приводит две разные позиции, спор Эсхила и Еврипида о назначении театра актуален до сих пор. В античном театре поэт — и автор трагедии, и как режиссер-постановщик — интерпретатор известного мифа. Он наполняет безжизненный миф общечеловеческим содержанием. Главный вопрос для автора заключается в том, как показать людям самих себя в облике мифических героев, в одеждах героев драмы. Если зритель увидит здесь, в театре, себя, ждущего единственного правильного решения, в речах героев узнает свои трудности и заблуждения, то трагик сделал свое дело. Для достижения высокого идеала нужно героическое величие. Надо ли показывать людям их ничтожество? Этот спор в агоне комедии — противостояние двух точек зрения, не решен до сих пор и в современном театре. Есть ли необходимость слишком приближать к нашему времени героев далекого прошлого, испытывали ли они такие же страсти и муки поиска? Эсхил в изображении Аристофана считает, что есть законы искусства, а Еврипид их изувечил. Показывать людям зло и пороки, значит учить им. Противоборствующие поэты цитируют стихи друг друга и издеваются над ними. И хотя Дионис возвращается на землю с Эсхилом, Еври-пид не проиграл. Дионис говорит: «Считаю мудрым этого (Эсхила), того ж люблю (Еврипида)». Он просит помощи у обоих, дайте совет,
1 Афиней (III в. н.э.) передает, что Эсхил называл свои трагедии «Крохами с пиршественного стола Гомера».
2 Сравним комедию Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий».
что делать с Алкивиадом (1413). Так Аристофан возвращает зрителей к реальной жизни полиса. Его комедии никогда не отрывались от своего времени. Еврипид осторожно спрашивает, что думает об Алки-виаде город. Ответ Диониса: «Желает, ненавидит, хочет все ж иметь» (1425). И Еврипид, который не проявлял гражданственности во время спора и всячески поносил за это качество Эсхила, вдруг говорит: «Мне ненавистен гражданин, что медленен на помощь государству, на беду же скор» (1427-1428)1. Эсхил высказывает свое мнение так: «Не надо было львенка растить в городе, а если он вырос, то заставит любым способом слушать себя» (1431-1433)2. Дионис удивлен: «Один ответил мудро, а другой мудрее»3. Но выбран Эсхил. Его совет, что делать, чтобы спасти государство, сводится к следующей мысли: не надо считать землю врагов своей, а свою страну — пределом врагов.ом 5е т6v п6роv.
Когда считают, что земля врагов — своя. Своя ж земля —
Предел врагов, то средством достигнуть цели
Служат корабли4, а безысходность — это тоже средство.
(Пер. Л.Б. Поплавской)
Эти два стиха с антитезой представляют собой изящный по построению и смыслу хиазм. Последний вывод явно не в духе миро-
1 В греческом тексте: цеуаХа d pianxeiv та%6<; — «быстр навредить во многом». Здесь и далее Аристофан цитируется по изданию: Aristophanis comoedias / ed. Th. Bergk. Vol. 2. Lipsiae, 1882. Ed. altera.
2 Алкивиад — афинский полководец и политик — часто менял свою позицию, переходил на сторону спартанцев в Пелопоннесской войне и опять возвращался в Афины.. В греческом тексте нет сравнительной степени «мудрей», как в переводе А.И. Пиотровского. В дословном переводе: «один сказал умно, другой сказал умно», т.е. не хуже первого.
4 Нет ли здесь намека на морские набеги или речь идет о торговле? Тогда и затруднения могут привести к успеху.
воззрения Эсхила. Но Аристофан живет уже в другое время. Комедия «Лягушки» была поставлена в 405 г. до н.э. Народное собрание утверждает морской поход на Сицилию, партия Никия не в силах отменить это решение. Правильный ли путь для афинян этот поход или их пород станет aпорía — положением, из которого трудно найти выход? Еще неизвестно, что афинский флот (тад vaйg) будет разбит у берегов Сицилии. А Алкивиад, выросший из «львенка», обвиняемый в пародировании Элевсинских мистерий, в процессе о низвержении герм, станет наказанием для своей родины. Аристофан в ранней по времени написания комедии выплескивает на сцене то, что волнует город дурными предчувствиями.sцíюv еггаг офsт8рav)? Возмездие наступит, и прежде правильный путь (пород) станет aпорía, откуда нет выхода из-за пород — пути по дороге жадности и стяжательства. В этих стихах у Аристофана игра слов, основанная на полисемии слова пород. В исходном значении — это «путь», «переправа». В другом значении -«доход», «прибыль». И в третьем значении это слово может значить «средство выхода из затруднительного положения». Но стоящее здесь же слово aпорía с приставкой а рйуайуит, отнимающей качество или свойство, отрицает возможность этого выхода.
Эти стихи уже не касаются Эсхила, но они интересны афинскому зрителю. Не надо забывать, что афинские граждане всегда озабочены делами своего полиса и даже в театре (а может быть в театре в первую очередь) хотят найти ответы на то, что волнует город. Еще раз вспомним, что для Аристофана сцена — школа для взрослых. Отдельно взятый афинянин мог обвинять во всех неудачах полиса конкретного человека. Но считал ли он себя виновным в этих просчетах, ведь он участвовал в решении государственных дел, высказываясь в Народном собрании? Уже Аристофан не понимает, почему народ, а его олицетворяли судьи, под давлением Совета 500 наказывает афинских стратегов, а потом раскаивается в их смертной казни. Они победили у Аргинузских островов, но не смогли похоронить павших из-за шторма (406 г. до н.э.). Это было религиозное преступление, нечестие (ао8Реш). Почему с почестями сначала встречают Алкивиада, а потом
1 Гусейнов Г. Аристофан. — М.: Искусство, 1988. — С. 210-224.
ему не доверяют и гонят так, что он вынужден уйти к персам, врагам? Что такое нравственная ответственность, если она меняется под искусством убеждения?1 Эти вопросы характеризуют жизнь Афин в V в. до н.э.
Эсхил столкнулся с другими трудностями найти свое место в неустойчивом тогда полисном устройстве. Полисная мораль еще не была сложившаяся. Главное событие жизни Эсхила и его современников — греко-персидская война. Все братья — сыновья Эвфориона, в том числе сам Эсхил, участвуют в битве при Марафоне (490 г. до н.э.), Са-ламине (480 г. до н.э.), Платеях (479 г. до н.э.). Брат Кинегир погиб как герой. Вот почему в анонимной биографии Эсхил, прежде всего, назван «брат Кинегира». А когда трагик в конце творческого пути (70-е годы) уезжает в г. Гелу, чтобы там, на Сицилии, по приглашению тирана Гиерона вторично поставить трагедию «Персы» и написанную на материале местных мифов драму «Этнянки», он умирает на чужбине. Сицилийцы, похоронив поэта, оказали ему величайшие почести и, как сообщает биограф, написали на его памятнике эпитафию, где говорится о воинских заслугах Эсхила. «Длинноволосый мидянин узнал его храбрость в марафонской роще». Однако слов о творческой славе первого трагика Греции нет. Предание приписывает сочинение этой эпитафии самому Эсхилу и отмечает его необыкновенную скромность. А может быть не в скромности дело? Достойному гражданину присуща гражданственность, это естественное состояние. Победы Ареса затмили победы мусических агонов, хотя первую победу в соревновании трагиков Эсхил одержал за четыре года до Са-ламинского морского боя2. Противоречивое время делает противоречивой личную и творческую жизнь. Хотя, по словам Афинея, Эсхил и примеряет свое творчество к Гомеру, он должен переосмыслить всю эпическую поэтику и художественные приемы. Этого требуют другие задачи нового времени, иное взаимоотношение человека с миром, потому что мир стал иной. Но высокие нравственные идеалы не должны меняться. Это, прежде всего, Дика — олицетворение справедливости, богиня правды и суда во имя этой справедливости. О «прямом» суде, когда человеческое благополучие достигается трудом и честностью, писал Гесиод, он же отрицал «кривой» суд, допускающий нечестивое обогащение. Помимо дидактического эпоса архаическая лирика VII-VI вв. до н.э. ищет нормы нравственного поведения
1 Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. — М.: Лабиринт, 2004. -С. 26-27.
2 Ярхо В.Н. На рубеже двух эпох // Эсхил. Трагедии / пер. В. Иванова. — М.: Наука, 1989. — С. 471 и далее.
человека, его ответственности за справедливость происходящего, особенно Солон — законодатель и поэт. Но воля божества неведома и непостижима. Как суметь человеку сочетать нравственные нормы, установленные богами, и человеческие устремления? Есть божественное предназначение и свободный человеческий выбор правильного пути. Как не ошибиться с этим выбором? Такого вопроса не ставили ни эпические поэты, ни лирики. Тяжесть его разрешения легла на драму. Именно в конце VI — начале V в. до н.э. из-за противоречивости внешнего мира, неустойчивости жизни под влиянием политических событий надо отстаивать в человеке человеческие ценности. Эсхил — потомок старинного аристократического рода принимает реформу Ареопага (462 г.), трезво оценивает события, заложившие основу для установления афинского демократического правления. Все три великих поэта греческой трагедии олицетворяют своим творчеством этапы его развития: Эсхил — начало, Софокл — расцвет, Еврипид — кризис афинской демократии. Эсхил был первым, кто взялся за художественное переосмысление литературных задач нового времени. За ним был творческий опыт эпоса и лирики, а у них свои идеалы совсем в другое время, другие читатели (в начале — слушатели), а теперь уже зрители. Новый род литературы должен соответствовать новому мировоззрению. Нравственное содержание драмы не должно базироваться только на мифе, но и не может оторваться от него в силу литературной традиции, консерватизма слушателей, читателей, зрителей. Эсхил первым сделал трагедию тем, что составляет ее сущность. Это столкновение двух начал, две правды двух героев. Надо выбрать одну. Нужны предпосылки для сценического столкновения двух героев. Эти предпосылки трагику следует искать в мифической истории, оглядываясь на историю современную. В архаической поэзии уже начинается художественное переосмысление понимания миропорядка, взаимодействие в нем человека с богами и с судьбой. Эсхилу было суждено завершить этот процесс в греческой драме1, вложить новый нравственный смысл в хоровые кантаты только что зародившейся трагедии. Изменение морального аспекта, иной взгляд на человеческую жизнь невозможны без изменения художественной формы и поэтических средств. Актер-декламатор, общающийся с хором, не может исчезнуть сразу. В ранних трагедиях Эсхила 70-60 гг., когда уже задействованы два актера, роль второго снижена, у него мало реплик. Не только нет полноценного диалога между двумя персонажами, но второй актер редко вступает, больше молчит.
1 Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. — М., 1990. — С. 5-7.
Действие продвигается вперед благодаря хору, который отчасти берет на себя его функцию. Поэтому в ранних трагедиях хор мог выступать двояко: и как действующее лицо, и как собственно хор — исполнитель лирических песен, связанных с содержанием трагедии. В них хор отсылал зрителя к переплетению событий собственной мифической истории и напоминал о родовых связях героев. Ведь герои трагедии были именно связаны мифом, и их поведение не могло выйти за его рамки. Хоровые песни постоянно возвращали героев и зрителей в это строго очерченное пространство. Поэтому нам интереснее исследовать поэтику именно ранних драм Эсхила. Оставим в стороне «Орестею» — единственную дошедшую из трилогий античного театра. Это произведение зрелого мастера заимствует уже существующее нововведение Софокла.
Эсхил пользуется вторым актером и в «Орестее» добавляет к нему третьего, как Софокл. Но это добавление у старого мастера мало оправдано: он по-прежнему предпочитает диалоги, третий герой в них пока не участвует. В трагедии «Умоляющие»1 два актера на роль Даная и аргосского царя Пеласга. Роль вестника сыновей Египта мог исполнять тот из двух актеров, кто не был задействован в данном эписодии. По-видимому, это был актер, ранее выступавший в роли Даная, т.к. в третьем эписодии Даная нет. Вестник общается только с хором девушек, желая их забрать на корабль и спорить с Пеласгом, который не может это допустить. В этой трагедии 1074 стиха. В ком-мосе — выходной песне хора пять строф и пять антистроф. Но в хоровые партии вторгается диалог Пеласга и девушек, встреченных им на берегу аргосской земли. В русском переводе В. Иванова, а затем А.И. Пиотровского он разговаривает не со всем хором, а с его предводительницей. Это естественно и понятно, т.к. по традиции греческий хор говорит о себе только в единственном числе. Однако в рукописном тексте нет разделения на хор — участник диалога и хор — исполнитель кантаты. В действующих лицах (та той 5рацатод прооюпа) обозначен только «хор Данаид» (хород Лavaí5юv). Помочь может метрика
1 Эту трагедию в русском переводе иногда называют «Просительницы». Одноименная пьеса есть и у Еврипида (420 г.). Мы будем называть ее «Умоляющие», чтобы отличить от «Просительниц» Еврипида. Это более точный перевод греческого заглавия Тк8п5ед, оно одинаково у Эсхила и Еврипида. Ткетид, г5од — ж.р.к. Ткетпд, ои — «пришедший с просьбой о защите» образовано от глагола /keteUw — «умолять о защите», «просить убежища». Заглавие «Просительницы» известно в русском переводе В. Иванова (1-324) и А.И. Пиотровского (324-1074), продолжившего до конца незавершенный перевод В. Иванова. См. Эсхил. Трагедии / в пер. Вячеслава Иванова. — М.: Наука, 1989.
трагедии: партии хора составлены в традиционных размерах хоровой лирики, а реплики диалогов в ямбическом триметре и его разрешениях (спондей, трибрах, ложный дактиль). Также в русском переводе хор уже разделен на два полухория: хор дочерей Даная и хор служанок.
Трагедия «Умоляющие» была не отдельной драмой, она входила в драматическую трилогию, дополненную, как было принято в греческом театре, сатировской драмой. Сохранилась только первая часть трилогии — Это наша пьеса «Умоляющие», дата ее постановки точно неизвестна. Вторая часть «Египтяне» и третья «Данаиды» не дошли, как и сатировская драма «Амимона». Содержание этой трилогии основано на мифической истории Аргоса, где происходит действие. Там когда-то жила девушка Ио — дочь бога реки Инаха. Она была жрицей в храме Геры. Когда Зевс стал домогаться ее любви, ревнивая Гера могла помешать страсти бога, и он превратил ее в телку. По другой версии мифа, которую приводят и схолии к трагедии Эсхила1, сама Гера отомстила сопернице, лишив ее человеческого облика и наслав на нее злого овода. Овидий в поэме «Метаморфозы» (I, 610 с илл.) говорит о превращении Ио в корову именно Зевсом. Под укусами овода Ио бежала по всей земле. Она прошла Европу, Азию и, наконец, нашла прибежище в Египте. От прикосновения Зевса она родила там сына Эпафа. Он стал царем Египта. У Эпафа были правнуки Данай и Египет — дети Бела2. У первого было пятьдесят дочерей, у второго пятьдесят сыновей. По-видимому, от нескольких жен3. Когда сыновья Египта захотели насильно жениться на дочерях Даная, те вместе со своим отцом бегут в Аргос, откуда родом их праматерь Ио. Они не чужие на этой земле, поэтому надеются на помощь и защиту.
Трагедия «Умоляющие» рассказывает о прибытии дев по морю и все действие происходит на берегу недалеко от города Аргоса у общего алтаря всех олимпийских богов. Местному царю Пеласгу удается отстоять Данаид от покушения вестника сыновей Египта. Но самих Египтиадов еще нет. Из мифов мы знаем, что их брак состоялся против воли дев,
1 Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia. Pars I / ed. O.L. Smith. Leipzig, 1976.
2 Схолии (ad v. 318), ссылаясь на Еврипида, приводит пять имен сыновей Бела: Египет, Данай, Феникс, Финей, Агенор. У Геродота (II. 91) есть другое родословное дерево. К нему присоединяется Еврипид, цитируемый по Апол-лодору (II. 1.4). См. Грейвс Р. Мифы Древней Греции // пер. с англ. К.П. Лукья-ненко, под ред. А.А. Тахо-Годи. — М., 1992. — С. 157.
3 В мифе матери Египтиадов и Данаид бегло перечисляются, причем смертные женщины в одном ряду с божествами: ливийки, арабки, наяды, гамад-риады, египетские принцессы из Элефантины, Мемфиса, эфиопки и проч. См. Грейвс Р. Мифы…, там же.
и отец Данай приказал дочерям убить мужей в брачную ночь. Сорок девять девушек подчинились, лишь одна — Гиперместра, по совету Артемиды, пожалела своего мужа Линкея, потому что он пощадил ее девственность (Аполлодор II. 1. 5., Гигин. Мифы. 170). Этот сюжет использует и Овидий в поэме «Героиды» (14), где Гиперместра пишет письмо Линкею. В не дошедшей до нас третьей драме трилогии «Данаиды» был изображен суд над Гиперместрой. Данай требовал смерти дочери за то, что ослушалась приказания отца, а аргивские судьи ее оправдали. Впоследствии Гиперместра вновь соединилась с Линкеем и стала прародительницей царского рода в Аргосе. Данаиды были очищены от крови убийства в Лернейском озере с позволения Зевса, Афины и Гермеса. В подземном царстве Аида их присудили вечно носить воду в дырявых сосудах. Трилогия заключалась сатировской драмой «Амимона». Она носила имя другой дочери Даная. В мифическом сказании земля Арго-лиды страдала от засухи, т.к. обиженный Посейдон высушил все реки и ручьи. Данай послал дочь Амимону искать воду, она должна была умилостивить Посейдона. Амимоной хотел овладеть сатир, но Посейдон, которого она позвала на помощь, отстоял ее, метнув в сатира свой трезубец. Он попал не в него, а в скалу, откуда заструилась вода. Этот источник был назван Амимона по имени девушки Данаиды, из него вытекает река Лерна, не пересыхающая даже в зной. Амимона в благодарность за спасение сочеталась с Посейдоном. Об этом также рассказывают Гигин (Мифы, 169) и Аполлодор (II. 1. 4).
История Данаид была известна в литературе до Эсхила: эпическая послегомеровская поэма «Данаида» (из шести с половиной тысяч стихов дошло только два), фрагменты, приписываемые Гесиоду (фр. 127, 128, 135, 137; «Щит Геракла», 327). Но в них не было связного изложения мифического сказания. У драматурга Фриниха также были несохранившиеся трагедии «Египтяне» и «Данаиды». Поэтому одна дошедшая до нас драма Эсхила из всей не известной нам тетралогии — единственная драматическая версия обработки местного ар-госского предания. Время постановки этой трагедии точно не определено. Из всех известных нам драм Эсхила она самая ранняя.
В 1952 г. был опубликован папирусный отрывок из дидаска-лии, имеющей отношение к тетралогии Эсхила о Данаидах1. В нем упоминаются имена Софокла, архонта Архедемида. Хотя текст
1 The Oxyrhynchus Papyri, 20. 1952, № 2256, fr. 3.; Ярхо В.Н. Обретенные страницы. История древнегреческой литературы в новых папирусных открытиях. — М.: Лабиринт, 2001. С. 143-151. Вопросам датировки была посвящена статья Тронского И.М. Оксиринхская дидаскалия к тетралогии Эсхила о Данаидах // Вестник древней истории. — 1957. — № 2. — С. 146-159.
дидаскалии испорчен, на этом основании трагедию «Умоляющие» стали датировать 463 г. до н.э. Но возможно, что речь идет не о первой, а о посмертной постановке тетралогии. Ведь нам известно, что трагедии Эсхила ставились после его кончины. В агонах он соревновался с драмами живущих тогда авторов. Помимо трагедии Эсхила «Прометей прикованный», где появляется Ио (589 слл.), о ней говорит и Софокл в «Электре» (5 с илл.). К истории Ио имеет отношение еще один папирусный отрывок из сатировской драмы Софокла «Инах»1. Отец Инах — бог одноименной реки — так оплакивал свою дочь, что воды реки высохли. Горе Инаха описывает также Овидий в поэме «Метаморфозы» (I. 583 с илл.). По сообщению Павсания (III. 18. 7), на троне Аполлона в Амиклах была изображена Гера, смотрящая на превращенную в корову Ио. Это было иллюстрацией мифа, отраженного в перечисленных литературных произведениях. Впрочем, «Инах» Софокла не все считают сатировской драмой. Что касается дошедших отрывков из сатировских драм, принадлежащих Эсхилу, то они из других тетралогий, не имеющих отношения к Ио и истории Данаид. Из двадцати пьес дошло около сотни отдельных разрозненных стихов, тридцать словосочетаний и тридцать одно отдельное слово2.
В 1933-1934 гг. были опубликованы отрывки с диалогами из пролога сатировской драмы Эсхила «Тянущие невод» и «Священное посольство, или истмийцы»3. Лексика его сатировских драм в основе своей общеупотребительная, известная из раннего и классического периода греческой литературы. Особая группа слов свойственна хоровым партиям трагедий, лирическим хорам в комедиях Аристофана и хоровой партии из опубликованных отрывков сатировской драмы Эсхила «Прометей зажигатель огня», относящейся к драме о Прометее. Она была заключительной в тетралогии 472 г. до н.э. 4 Полностью сохранившуюся тра-
1 Tragicorum Graecorum fragmenta / edd. B. Snell, R. Kannicht, St. Radt. vol. 1-4. Gottingen, 1977-1986. V. 4, fr. 269a — 269e: Tragicorum Graecorum fragmenta selecta / ed. J. Diggle. — Oxonii, 1998. P. 41-44; Софокл. Драмы / в пер. Ф.Ф. Зелинского. — М., 1990, фр. 54-68.
2 Ярхо В.Н. Обретенные страницы…С. 144.
3 Tragicorum Graecorum fragmenta / edd. B. Snell, R. Kannicht, St. Radt. vol. 1-4. Gottingen, 1977-1986. V. 3, fr. 46a, 47а-47с; Tragicorum Graecorum fragmenta selecta / ed. J. Diggle. — Oxonii, 1998. P. 5 sq., 7-9; Эсхил. Трагедии. / в пер. Вячеслава Иванова. — М.: Наука, 1989, фр. 107; Ярхо В.Н. О папирусных фрагментах сатировских драм Эсхила // Вестник древней истории. — 1959. — № 4. — С. 132140; Раевская Н.Л. К вопросу о реконструкции «Тянущих невод» / Язык и литература античного мира. — Л., 1977. — С. 51-55.
4 Ярхо В.Н. Лексика сатировских драм Эсхила // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1963. — № 22. — С. 499-511.
гедию раннего периода творчества мы имеем одну — это «Умоляющие». Поэтому будем говорить именно о ее поэтическом языке.
Драматический конфликт этой драмы заключается в столкновении грубой силы и слабости тех, кто не хочет подчиняться насилию. У каждого своя правда (Дика). Пеласг олицетворяет силу, защищающую правду слабых, если он захочет защитить Данаид. Такова его первая реакция на возможность применения египтянами несправедливой силы. Данаиды правдивы в своей слабости. Они не могут подчиниться женихам не из-за близкого родства (это допускалось в греческом обществе) или отвращения к мужчинам вообще, а из-за того, что Египтиады готовы сломить их грубой силой, решить их судьбу, не спрашивая желания девушек. Женихи не подозревают о наличии воли у слабых дев, которые должны покориться необходимости. В мифе этот брак считался делом решенным из-за конфликта по поводу наследства между их отцами Египтом и Данаем. Желание Египтиадов выражает их вестник, поэтому он непреклонен. Если девушки не захотят вернуться к женихам, так он потащит их силой. Данаиды только умоляют, принимать решение должен Пеласг. Он выбирает, на что обрекает в первую очередь себя: на борьбу с Египтиадами, чтобы стать на сторону справедливости, но тогда он принесет своему народу страдания войны, или, защищая право своих подданных на мирную жизнь, он выберет борьбу с богами, заветы которых будут нарушены. Ведь Данаиды умоляют о защите именем этих богов у алтаря всех олимпийцев. Пеласг оказывается в конфликте с самим собой, выбирающим правильный путь (пород) из той безысходности (aпорía), куда его загнали обстоятельства приезда незваных и нежданных дочерей Даная. Но ведь они соотечественники, здесь жила их праматерь Ио.
Эта дилемма пород — aпорía в какой-то мере перекличка с ответами двух трагиков на вопрос Диониса в «Лягушках» Аристофана. Эсхил ставит зрителя на место Пеласга. Он — настоящий герой его трагедии, за ним единственным выбор разумного решения. Тогда как ход мифической истории о пятидесяти женихах и их невестах идет своим чередом, его финал нельзя изменить. Это новый взгляд на миф, поэтому в трагедии присутствует новый персонаж. Пеласг нужен в конфликте драмы. В мифе он не предусмотрен. У героя драмы мало времени, он должен действовать. Хотя стиль Эсхила считали тяжеловесным, напыщенным, иногда трудным для понимания1, все образы его поэтики реальны. Они берутся из внешних сил природы, мира домашних животных, хищных зверей, птиц, области ремесел
1 Оценка стиля Эсхила в комедии Аристофана «Лягушки», в анонимной биографии, в отзыве римского теоретика риторики квинтилиана.
и мореплавания. Именно маринистические метафоры создают трагический фон, ощущение надвигающейся беды. Маринистики больше в собственных песнях хора, нежели в репликах диалога1. Описание морских бурь становится метафорами бурь житейских, передаваемых через образы морской стихии и корабля, носимого штормом. Данаиды бегут из Египта в Аргос морем, поэтому постоянные упоминания о корабле и недавнем плавании вполне оправданны. Большая часть маринистики в хоровых партиях метафорами не являются. Пеласг, прежде чем оказать покровительство девушкам, глубину своих раздумий сравнивает с глубиной пучины, в которую погружается водолаз (по-видимому, ловец жемчуга или губок).
407 и сл.-«винт». Это технические термины, известные строителям кораблей. Хотя Пеласг никуда не плавал, тем не менее он подхватывает морские метафоры, говоря не только об «умоляющих», но и о себе самом. Судьба, поставив его перед выбором, ввергла в пучину зла.
470. Я вступил в это непроходимое бездонное море
Несчастья, и нигде нет спасения (букв. «гавани») от бед.
Когда в конце драмы за девушками является глашатай, проклятие Данаид пришедшему кораблю вполне соответствует духу I Страсбург-ского эпода, автором которого, по-видимому, является Архилох. Это пожелание «пропасть» именно в море у Сарпедонова мыса (867-870). Сарпедонов мыс в киликии, как и архилоховский Салмидесс во Фракии — подлинное географическое название. Но применяется оно
1 Поплавская Л.Б. Маринистика в поэтике трагедий (Эсхил «Умоляющие», Софокл «Аякс», Еврипид «Медея») // Philologia classica, вып.код или дакод — это и длина, и долгота. Так можно сказать и о времени, и о пространстве. Уходит в бесполезных спорах время, отпущенное для спасения, и сокращается пространство между беглянками и кораблями преследователей. Эту скрытую в греческом тексте метафору почувствовал А.И. Пиотровский, он переводит:
Отец, мне страшно, корабли крылатые
Летят, и время мчится кораблей быстрей.
Пока Данаиды не знают, согласен ли Пеласг отстоять их от притязаний Египтиадов, они ждут помощи от богов. Вестниками божьей воли считали птиц. По звуку их голосов и направлению полета гадали и прорицали жрецы. Птицы — предвестники будущего, по ним пытались осмыслить и настоящее. Мотив «птиц» активно использован в поэтике «Умоляющих»1. Хор во второй строфе сравнивает свою песню-причитание о горестях дочерей Даная с жалобой соловья. Данаиды бегут из родного Египта, как птицы, гонимые ястребом из насиженных мест.
57 и сл. «Если какой-нибудь местный птицегадатель окажется поблизости, то, услышав жалобу, он решит, что слышит голос тереевой супруги, достойной жалости из-за своего замысла, — соловья, преследуемого ястребом».
1 Поплавская Л.Б. Мотив «Птицы» в поэтике трагедии Эсхила «Умоляющие» // Труды ежегодной богословской конференции православного Свято-Тихоновского богословского института. — М., 2002. — С. 390-394.
И антистрофа хоровой партии подхватывает этот птичий образ матери-мачехи (Зиоцатород):
62 и сл. «Словно гонимая с прежних мест, выплакивает она жалобу по поводу нового местопребывания. Она слагает участь сына (т.е. рассказывает в песне о его судьбе) о том, что он погиб от ее руки, убийцы-родственника, встретившись со злобой злой матери». Это новое местопребывание (v8оv ^98юv), точнее, «дом», «гнездо» схолии объясняют как «привычное место (гнездования)»: ^98юv ^еп.9юv т6пюv. Подобным образом Эсхил интерпретирует миф об афинской царевне Прокне, муж которой фракийский царь Терей, сын Ареса, обесчестил ее сестру Филомелу и лишил ее языка, чтобы она не рассказала о его поступке. Прокна, чтобы отомстить мужу, совершает, по существу, поступок Медеи, убив своего сына Итиса. В трелях соловья греки различали стенания и жалобы на свою судьбу матери-детоубийцы. Прокна была превращена богами в соловья, Филомела стала ласточкой, а Терей превратился в удода. Хотя различные варианты этого мифа не совпадают в деталях этого превращения. Так рассказывают этот миф Аполлодор (III. 14. 18) и Овидий в поэме «Метаморфозы» (VI, 426-674). Овидий добавляет, что над брачным покоем Терея и Прокны сидит на крыше сова, она словно присутствует при зачатии Итиса. У многих народов есть поверье, что сова над домом — знак близкой смерти. Терей у Овидия обходится с Филомелой, как орел с зайцем, уносимым им в горное гнездо. Дева, предчувствующая недоброе, сравнивается с голубкой, которая страшится когтей хищника.Хатад аn56vоg (61) — «соловья, гонимого ястребом» как указание на Терея, в других вариантах мифа действительно превращенного в ястреба, а не в удода: «Ястреб кружит / Над соловьем / Над Прокной — ворог-муж Терей». В примечаниях к тексту перевода В.Н. Ярхо верно замечает, что соловью всегда надо опасаться хищника, и в качестве сравнения указывает на Гесиода («Труды и дни», 202-212), где рассказана притча о соловье и ястребе.
История соловья Прокны в хоровой песне драмы «Умоляющие» является развернутым сравнением, переросшим в скрытую вставную новеллу, рассказанную за рамками текста трагедии. Зрителям, точнее слушателям этой песни, было достаточно лишь упоминания имени Терея, чтобы понять недосказанное и сравнить выплакиваемую просьбу о помощи Данаид с трелями трогательной птицы, берущими за душу, как история несчастной матери несчастного сына. Ниже будет упомянуто «сердце, непрерывно льющее слезы» (апеф65акрш те кар5íаv) и «срывание цвета жалоб» (yое5va 5 av9едíZодаl) несчастными девами, царапающими лицо из-за непоправимой беды (70-72)1.
Эта картина женского бессилия и испытываемого от него отчаяния связана с историей Прокны помимо союза ате — «словно» в начале второй антистрофы еще двумя следующими союзами, они делают это сравнение неоспоримым (69): тюд ка! еую — «так вот и я (любящая сетовать на ионийский лад…)».
Таким образом, в начале трагедии Эсхила тема девичьей незащищенности в поэтическом переложении становится беззащитностью птицы. И тогда не вызывает удивления постоянное сравнение Данаид с птичьей стаей. Вестником утренней зари — «зевсовой» птицей называет Данай восходящее солнце, предлагая дочерям позвать его (213). Схолии поясняют 6рvw т6v5е как солнце (т6v с уточнением:
«ведь оно поднимает нас как петух». После стихомифии, включающей это скрытое сопоставление (210-221), в устах Даная опять сравнение Данаид с птицами, на этот раз со стаей голубиц.
223 и сл. Словно стая (букв. «рой») голубей сидите вы в священном страхе перед ястребами с одинаковым оперением — это род врагов единокровных и несущих скверну.
1 «Щеки царапаю в кровь, / опаленные нильским солнцем, / жалоб цветущих печали срываю». — Пер. Л.Б. Поплавской.
226 и сл. Как же может остаться чистой птица, отведав птицы?
как останется чистым тот, кто женится на противящейся, (получив ее в жены) от нежелающего (этого брака отца)?
Царь Пеласг понимает, что оставить девушек беззащитными грешно, словно отдать их живыми на растерзание хищным птицам:
510 Ведь мы не выдадим тебя в качестве добычи крылатых.
Хор Данаид согласен спастись от нечестивых преследований либо в петле (788), либо в горных высях, где живут лишь коршуны (796). Они готовы рухнуть в пропасть и достаться собакам и хищным птицам, лишь бы не было этой свадьбы (804). Так образы птиц пронизывают всю рассмотренную трагедию Эсхила. Они выступают в мольбе о защите и как развернутые сравнения, уводящие в известные мифы, и как предвестники неминуемой беды или смерти.
Эсхил может отказаться от метафор, когда надо развивать аргументы в споре, тогда диалектика его рассуждений тонкая и сильная. Он пользуется стихомифией, когда герои обмениваются репликами по одному стиху (реже по два или по три). Краткость и нервная сжатость стиха передают стремительность действия и остроту переживаний. Это верно «для коротких диалогов, где каждый стих поочередно есть или вопрос, или ответ, просьба или отказ, нападение или отпор»1. Собственно стихомифия начинает с 210 стиха2. Перед этим реплика хора также диалогического характера служит ответом наставлению отца Данаидам, как им беседовать с царем Пеласгом. Данай кончает свое назидание почти поговоркой. Это похоже на народную мудрость, apte dictum: «Не подобает слабым быть дерзкими на язык» (203). На что Данаиды резонно отвечают: «Отец, ты говоришь разумно с разумными (людьми)!» Употребление одного корня в adverbium и в participium подчеркивает чувство собственного достоинства дев, считающих себя достаточно взрослыми, чтобы понимать всю сложность своего положения и будто бы не нуждающихся в излишней опеке отца. Так передан вечный конфликт отцов и детей в эсхиловской интерпретации известного мифа. Начинает эту «борьбу» реплик одиночными стихами
1 Круазе А. и М. История греческой литературы // под ред. и с предисл. С.А. Жебелева. Изд. 2-е. — Петроград, 1916. — С. 259. Новое издание: Издательство СПбГУ под ред. С.И. Межерицкой. 2008. — С. 223.
2 Поплавская Л.Б. Стихомифия в греческой трагедии // Индоевропейское языкознание и классическая филология — VII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. — СПб.: Наука, 2003. -С. 89-94.
Данай, отталкиваясь от призыва дочерей к Зевсу (206). Девушек страшит предстоящее, т.к. оно неизвестно. Несмотря на высказанную самостоятельность, беглянки «жмутся» ближе к родителю: «Как бы я хотела быть ближе к тебе» (208). Теперь уже Данай отвечает резонно: «Не мешкай, а принимай решение» (207). В буквальном переводе: «Пусть будет сила (найденного) средства — о вотю Kpáxog. Дочерям ка-
жется, что от отца нет реальной помощи, они опять обращаются к богу (209): «О Зевс, сжалься, пока мы не погибли от бед». Схолии дают пояснения к этому стиху: «Чтобы тебе не пришлось жалеть нас после того, как мы погибнем», — говорят они богу.
Одиннадцать стихов стихомифии (455-466) передают разговор девиц с Пеласгом. Этот стремительный диалог расположен между двумя монологами царя, где он, взвешивая все pro et contra, размышляет, помогать ли Данаидам. «Я предпочитаю быть несведущим в горестях, чем быть умудренным ими», — говорит Пеласг (453). Видя его колебания, Данаиды грозят самоубийством (457): «Есть у нас пояса и завязки от пеплоса». Теперь уже царь делает вид, что не понимает их: «Ведь это, пожалуй, и подобает женской одежде» (458). Так уходит Пеласг от ответственности, но хор Данаид возвращает его к выбору решения (459): «Знай, что из этого получится прекрасное средство». Пеласг как будто продолжает недоумевать (462): «На что годится это средство?». Тогда Данаиды обещают украсить алтарь новыми изображениями (463). «Что за загадочная речь, — говорит царь, — скажи попросту» (464). И когда в следующем стихе девы говорят, что повесятся на поясах прямо на алтаре (465), Пеласг наконец-то откликается как должно сердобольному человеку и благочестивому правителю (466): «Я услышал рассказ, бичующий сердце». И хор Данаид заканчивает стихомифию с облегчением (467): «Ну, уразумел, ведь я объяснила яснее» (букв. «снабдила глазами» говоримое). Оба диалога Данаид с отцом и Пеласгом, в которых они ищут помощи и защиты, неожиданно раскрывают характер дев с другой стороны. Да, они по-женски слабы и беспомощны на чужбине, их враги вот-вот появятся, но они настойчивы и упорны, умеют постоять за себя. Девы не просто молят (отсюда и название драмы «Умоляющие»), они способны к выбору крайнего решения в случае неудачи. Это их способ сопротивления своей судьбе. Стихомифия показывает, как складывается этот выбор натур отнюдь не слабых, и принимается решение на глазах у зрителей.
Эсхил добивается сочувственного понимания зрителями происходящей на сцене трогательной мифической истории новыми стилистическими и поэтическими средствами. У него в этом не было предшественников драматургов.
Для истории европейской культуры личность Эсхила — ключевая. Он стоит у истоков античной трагедии, значит и театра Европы. Оценка его творчества даже в анонимной античной биографии немногословна, но вызывает уважение. Его герои величественные, поэтому высокими должны быть и средства их изображения. В своей поэтике Эсхил опирался на традиционные метафоры и сравнения, известные из песенной лирики. Его задача — показать в театре величие героев мифа. Это должно стимулировать героические поступки людей. Высокая героика драмы должна воплощаться в деяниях его современников. Греки-победители в войне с персами были носителями несгибаемого человеческого духа (трагедия «Персы»). На этом примере воспитывались следующие поколения. Во имя божественной справедливости следует отстаивать права слабых и несправедливо обиженных (трагедия «Умоляющие»). Высокая героика трагедий Эсхила нужна людям. Поэтому Дионис выводит из царства мертвых душу Эсхила (комедия Аристофана «Лягушки»). Творчество Эсхила вне забвения.
П. Е. Михалицын (Харьков)
П.Е. Михалицын (Харьков)
Культурно-исторические предпосылки возникновения трагедии Χριστός πάσχων («Страждущий Христос»). Драматургическая инновация Григория Назианзина.
Трагедия «Χριστός πάσχων»1 (в латинском варианте – «Christus patiens» , а в русском переводе – «Страждущий Христос») являет собой образец ранневизантийского литературного творчества эпохи перехода от стереотипов античного, языческого мышления к принципиально новому, по своей сути, мышлению христианскому. Этот период истории Византии является одним из наиболее интересных и исторически значимых, так как именно в это время мы сталкиваемся с фактом возникновения уже, собственно, христианской литературы, которая сыграла огромную роль в истории не только византийской, но и всемирной культуры. Поэтому изучение литературных памятников указанного периода (одним из которых и является трагедия «Страждущий Христос») может дать «ключ» к лучшему уяснению некоторых причин возникновения феномена, имя которому – Византия. В данной статье будет предпринята попытка выявить культурно-исторические предпосылки возникновения трагедии «Страждущий Христос» с анализом того влияния, которое они оказали на формирование этого феномена ранневизантийской драматургии.
После завершения эпохи гонения на христианство и окончательного изменение курса корабля римской государственности, противостояние уже умирающей, но все еще реально существующей языческой партии и христианства перешло из чисто политической сферы в сферу культурно-идеологическую. Теперь язычество, лишенное политической поддержки, пыталось доказать всю серьезность своих мировоззренческих установок и противопоставить христианству всю мощь своего научно-культурного потенциала2. Вот в таких непростых условиях «тесной конкуренции» и возникает совершенно особый жанр уже христианской литературы – евангельская парафраза.
Как отмечает С.С. Аверинцев, по буквальному значению термин «парафраза» означает «пересказывание», то есть ино-сказательное высказывание того-же-по-иному, «переложение», как бы перекладывание смысла из одних слов – в другие3.
Вот какую меткую характеристику этому «господствующему над ранневизантийской литературой фундаментальному поэтическому принципу» дает все тот же С. С. Аверинцев: «Среди обширной литературы «парафраз» и «метафраз» в эпоху перехода от античности к средневековью особую роль играли эксперименты, основанные на применении к библейскому материалу античных форм, — пересказывание Ветхого и Нового Заветов языком и размером Гомера на Востоке, языком и размером Вергилия на Западе. Форма выбиралась, таким образом, не по соответствию теме, а по противоположности к ней, «наперерез» ей; из-за этого как тема, так и форма выступали в несобственном, самоотчужденном, превращенном и «превратном» виде. Пределом такого подхода были так называемые центоны на библейские темы — мозаики из стихов или полустиший языческих поэтов, принужденных описывать как раз то, чего не могли бы описать языческие поэты…»4. М.Л. Гаспаров и Е.Г. Рузина в своей статье отмечают, что «слово «центон» буквально значит «лоскутная ткань», «сшитое из разных кусков одеяло», «покрывало», «плащ», «матрас» и т.п. В литературе оно приобрело значение: «стихотворение, составленное из стихов или частей стихов уже существующих произведений одного или разных авторов». В традиционной теории литературы центон рассматривается исключительно как поэтическая забава или курьез»5. В новоевропейской литературе центоны практически не встречаются, а редкие их представители носят шуточный характер. Это объясняется отсутствием в этих произведениях примеров проявления индивидуальных чувств поэта и особым упором их авторов на передачу чужих слов и выражений, что совершенно неприемлемо в поэзии нового времени6. В ранневизантийское время техника центонов была наиболее распространена. Из греко-язычных примеров этого периода известен маленький центон о спуске Геракла в подземное царство, написанный Иринеем Лионским и, разбираемый нами, «Страждущий Христос»7.
Гораздо большего распространения достигла эта техника на латинском западе. Из латинских центонов этого времени наиболее известны «Медея» Госидия Геты (III век), «Брачный центон» Авсония (IV век), «Вергилианский центон по Ветхому и Новому Завету» поэтессы Фальтонии Пробы (нач. V века), а также двенадцать центонов из «Латинской антологии»8. Характеризуя особенности такого подхода к классическим текстам М.Л. Гаспаров и Е.Г. Рузина отмечают: «…в центоне установка на узнавание конкретных реминисцированных стихов задана читателю с самого начала. Поэтому каждый стих и полустишие здесь рассчитаны на двойное восприятие: в контексте исходном и в контексте новом, центонном. То сближаясь, то расходясь, эти два контекста создают такое поле эстетического напряжения, в котором все время находится читатель центона. Если бы не это ощущение второго плана, многие центоны оказались бы (показались бы) громоздкими и неуклюжими»9. Таким образом, и парафраза в целом, и центоны в частности, были призваны, уже по литературным особенностям своего построения «ввести читателя в сферу определенных настроений, ассоциаций и литературных аллюзий»10.
Но зачем необходим был такой откат на языческие литературные бастионы, и зачем необходимо было будоражить сознание читателя воскрешением языческих литературных образов? Для ответа на этот вопрос необходимо попытаться представить себе образ мышления «среднестатистического» византийца конца IV- начала V века11.
С нашей точки зрения он представлял собой некий «сплав» языческо-культурного элемента с всепоглощающей и все более преобладающей христианской составляющей12. В этих условиях оба «культурных кода» могли вполне умещаться в одно мировоззрение интеллектуального и «умеренно религиозного» христианина13. Но такое состояние не могло быть статичным на протяжении всей жизни человека – что-то должно было взять перевес, что-то должно было выйти на первый и определяющий план. Вот здесь и находится главный нерв всей этой интеллектуальной схватки между язычеством и христианством. Что завладеет мыслями и чувствами, то и будет составлять жизнь души. Каждая из сторон: и язычество, и христианство пытались на культурном носителе привнести свое собственное мировоззрение. Но язычество, по сравнению с христианством, находилось в более выгодном положении, так как вся тысячелетняя культура великой Аттики – это культура, основанная на языческом мировоззрении. Поэтому христианство и попыталось внести культурное наследие язычества в свою собственную систему координат, применив его, таким образом, к своим стратегическим задачам14. И этот ход оказался наиболее удачным.
Конечно, на устойчивые, в мировоззренческом плане, личности это противостояние не могло оказать никакого воздействия. Ни интеллектуальная элита язычества не изменила бы своим религиозным установкам, ни, тем более, духовные лидеры христианства не поколебались бы в своей вере, да и сама неотмирность христианства «создавала для христиан такой внутренний иммунитет по отношению к окружающему миру», который сохранил бы их от всякого инородного влияния15. Но речь, как раз, шла о тех колеблющихся умах, которых как в ту эпоху, так и в последующие, было немало. Именно за них и боролась между собой языческая и христианская интеллектуальная элита.
Задача христианских поэтов состояла не просто в механическом использовании цитат из античных авторов, не в простом подражании формам греческой драматургии (это как раз свидетельствовало бы о творческой капитуляции перед последними), а в попытке показать, что творчество классических поэтов и литераторов послужило предуготовлением к литературе собственно христианской, наполненной более глубоким мировоззренческим содержанием. Процесс решения этой задачи начался еще задолго до появления «Страждущего Христа» — во II в. до Р. Х. В иудейской среде, а именно в Александрии, некий Иезекииль сочиняет трагедию «Исход», которая в подражание древнегреческим трагедиям парафразирует известную книгу Библии16. С.С. Аверинцев отмечает, что хотя литературное качество этого произведения было еще весьма невысоко, но именно эта трагедия поставила ту задачу, «решать которую должна была европейская культура всем своим существованием»17. Этим и занялся интеллектуальный авангард христианства в IV веке.
Помимо разбираемой нами трагедии в IV в. Аполлинарий Лаодикийский, как сообщает в своей церковной истории Созомен, «по образу Гомеровых поэм переложил в героические стихи еврейское бытописание и, доведя его до царя Саула, разделил все творение на двадцать четыре части, из которых каждую обозначил одной из букв греческого алфавита … Писал он так же, применительно к творениям Менандра, и комедии, подражал Еврипиду в трагедиях, и Пиндару в роде лирическом»18. Позднее, в середине V в., императрица Евдокия, организатор и идейный вдохновитель философского кружка, занимавшегося изучением и переосмыслением литературно-философского наследия античности, напишет свои «Омирокентоны»19.
Приблизительно в это же время создается огромная и по объему и по своему богословскому значению парафраза Евангелия от Иоанна «Деяния Иисуса», принадлежащая первоклассному поэту Нонну Панополитанскому20. Необходимо отметить, что история парафразы не ограничивается периодом IV – V веков. Уже после окончательного идеологического поражения язычества при императоре Юстиниане (VI в.), появляются произведения подобного жанра, авторы которых ставили перед собой, правда, уже другие задачи. Так в 807 г. Стефан Савваит (Мансур или Певец) из Лавры преподобного Саввы Освященного пишет трагедию «Θανατος του Χριστου», а в X в. Иоанн Геометр создает парафраз на «Песнь Песней»21. Впоследствии уже многие церковные гимнографы будут, хотя и в других литературных формах, продолжать развивать идеи, заложенные в упоминаемых парафразах22.
Попытаемся на примере трагедии «Страждущий Христос», приписываемой Григорию Назианзину (Богослову)23, рассмотреть, как в ней литературный материал языческой драматургии послужил конкретным христианским целям. Для этого сначала попытаемся в общих чертах разобраться с тем материалом, который автор использует для построения центона. Исследователям удалось установить, что автор трагедии «Страждущий Христос» заимствовал драматический материал из семи трагедий Еврипида («Гекубы», «Медеи», «Ореста», «Ипполита», «Троянок», «Реса» и «Вакханок»), из двух трагедий Эсхила — «Агамемнона», «Прометея» и из «Александры» Ликофрона24. Таким образом, драматургия Еврипида явилась основным материалом построения драмы.
Но почему Еврипид25? Объясняется ли этот факт лишь субъективными симпатиями автора к классическому трагику или популярность произведений великого саламинца была настолько высока, что не использовать его в технике центона было бы просто-напросто признаком невежества и литературной близорукости26? Возможно, все эти причины, так или иначе, повлияли на выбор Григория Назианзина, как автора трагедии «Страждущий Христос», но только лишь этим исчерпывается проблема еврипидова приоритета в его произведении? По нашему мнению есть еще, по крайней мере, одна причина, которая вполне возможно стала во многом и определяющей. Но прежде чем ее обозначить присмотримся повнимательнее к творчеству самого великого трагика, особенно к тем философско-психологическим проблемам, которые поднимаются в его произведениях.
Трагик Еврипид (480-406 гг. до Р. Х.) был младшим современником Эсхила и Софокла – его великих предшественников на драматургическом поприще. Он явился третьим после Феспида и Эсхила великим реформатором трагедии27. Главным из его новшеств явилось изображение душевной борьбы героев. Хотя сам Еврипид стойко придерживался национального учения о богах, он в отличие от Эсхила и Софокла пытается отойти от объективного объяснения трагической коллизии лишь высшей волей богов, он пытается вскрыть всю субъективность психологического конфликта28. Герои трагедий Еврипида становятся более человечными и менее героичными, в привычном, для мифологического сознания, смысле. Они менее оторваны от психологических реалий действительности. В этом и проявляется философское переосмысление языческой мифологии у Еврипида. Поэтому Еврипида называли философом сцены и исследователи его творчества даже проводили определенные параллели между ним и Достоевским29. Таким образом, Еврипид поставил серьезную философско-психологическую проблему: как свобода человеческой личности уживается с божественными предначертаниями.
Но, выдвинув эту проблему, великий трагик так и не смог ее разрешить. Он сам столкнулся с коллизией веры в судьбу и свободой человеческой личности. Поэтому Еврипид путем различных сценических нововведений пытался как-то сгладить остроту этой проблемы. Так, он ввел пролог непосредственно перед началом действия, в котором какому-нибудь божеству или заслуживающему доверия персонажу «приходилось зачастую, как бы гарантировать публике ход трагедии и рассеивать все сомнения в реальности мифа»30. Тоже, по сути, происходило и в конце драмы, когда Еврипид, «чтобы поставить для публики судьбу своих героев вне возможных сомнений»31 пользуется сценическим приемом «deus ex machina» (бог из машины) или использует в качестве эпилога появление какого-нибудь бога, который и разрешает поставленные проблемы32. Особый психологизм действия и коренное переосмысление мифа в творчестве Еврипида явились категориями уже другой эпохи, и, может быть, поэтому непонятое современниками наследие великого трагика только в последующую эллинистическую эпоху стало особо почитаемо у греков33. И именно драматургическое новаторство Еврипида, достигнув своего предела в сценическом элементе, ведет к созданию образов типа драмы для чтения и дает толчок к уничтожению идеи судьбы «и установлению идеи богопознания, не имеющей ничего общего с мифологическим»34. Вот эти тенденции, заложенные в драматургии Еврипида, очень хорошо почувствовал автор «Страждущего Христа», поэтому именно трагедии Еврипида стали литературным базисом его произведения, и в этом основная причина приоритета этих трагедий перед произведениями Эсхила и Софокла.
Что же дала техника постоянного цитирования классических образцов Григорию Назианзину? Действительно ли смешение лексики языческой драмы с лексикой библейского повествования могло гарантировать лишь комический эффект, попади такое произведение в руки образованного читателя35? Думается, что подобные предположения могут иметь место лишь тогда, когда поэтическое наследие Григория Назианзина рассматривается без должного учета тех богословских задач, которые и обусловили его появление. Влагая в уста Богородицы речи еврипидовской Медеи и Гекубы, ликофроновской Кассандры и других персонажей, автор хотел показать как «разрешается «противоречие» между традиционностью формы и новизной содержания», как фатальность маски античного театра преодолевается христианским богословием36. Здесь происходит таинственная метаморфоза, приводящая к христианизации Еврипида и всего наследия древней Эллады. Читателю представляется возможность увидеть, что бы сделали Медея и Гекуба будь они христианками. В «Страждущем Христе» как и в «Деяниях Иисуса», со всей очевидностью показано, как «эллинская «форма» становится мистически бесплотной, а евангельское «содержание» мистически материальным»37. В этой трагедии, как и в эпиграммах Григория Назианзина, «нормы классической литературы усиливаются, трансформируются, обретают «второй смысл» в свете новых богословских установок»38.
Таким образом, христианская драма «Страждущий Христос» показывает, как неразрешимые противоречия Еврипида могут с легкостью найти свое разрешение, попади они на христианскую почву39. И Богоматеринство Девы Марии, и сама Личность Богочеловека Христа вносят принципиально новое в понимание человеческой личности, смысле ее существования и места в промыслительных действиях Творца. Бог сам становится действующим персонажем этой драмы. Он страдает по человечеству, но и воскресает по Божеству, упраздняя языческий конфликт разобщенности между Богом и человеком. В этом собственно и состоит инновация Григория Назианзина как драматурга. Ему удалось приживить классическую драматургическую форму на новой, христианской почве и показать еще вчерашним язычникам, а ныне новым христианам, как творчество не только Еврипида, Софокла и Эсхила, а и представителей всех культурных направлений классической Греции становятся в ряд тех предуготовлений, которые приводят к Христу – Спасителю мира, в византийском мировоззрении40.
Сведения об авторе:
Михалицын Павел Евгеньевич,
Харьковская Духовная Семинария, преподаватель,
Кандидат богословия.
8 (057) 340-61-91, mihalip@land.ru
1ПРИМЕЧАНИЯ
Это название дал трагедии ее первый издатель, Антоний Бладус. См.: Bladus A. Του̃ α̉γίου Γρηγορίου Ναζιανζηνου̃ τραγωδία Χριστός πάσχων. Sancti Gregori Nazianzeni…tragoedia Christus Patiens / Impressum per A. Bladus. – Rome, 1542.
2 Об культурно-идеологическом противостоянии язычества и христианства смотри статью: Уколова В.И. Особенности культурной жизни Запада (IV – первая половина VII в.) // Культура Византии: IV – перв. пол. VII в. – М., 1989. – С. 78-97.
3 Аверинцев С.С. Поэзия Нонна Панополитанского как заключительная фраза эволюции античного эпоса // Памятники книжного эпоса. – М., 1978. – С. 225.
4 Там же. – С. 225.
5Гаспаров М.Л., Рузина Е.Г. Вергилий и вергилианские центоны (Поэтика формул и поэтика реминисценций) // Памятники книжного эпоса. – М., 1978. – С. 197.
6 Гаспаров М.Л., Рузина Е.Г. Цит. соч. – С. 197. Дополняя это высказывание, выделим еще и историческую причину угасания жанра центонной поэзии в последующие времена. После VI в. язычество окончательно уходит с культурно-политической арены Византии, давая возможность для бурного развития уже собственно христианской литературы, без преобладания полемической направленности. Но в IV-V вв., то есть в период особого расцвета жанра центонов, культурно-политическая ситуация была совсем иной. Именно острая полемика между христианством и язычеством – одна из главных причин возникновения центонной поэзии.
7Гаспаров М.Л., Рузина Е.Г. Цит. соч. – С. 198.
8 Там же. – С. 198-199. Конечно, этот список не является исчерпывающим, здесь приводятся имена лишь наиболее значимых представителей центонного жанра, к которым хотелось бы еще добавить имя испанского пресвитера Ювенка. Он еще ранее Ф. Пробы (а, именно, в 332 г.), как сообщает об этом Иероним Стридонский в «Chronicon» и «De viris illustribus» «переложил, почти буквально, четыре Евангелия в шестистопные стихи, составил из них четыре книги и написал тем же метром некоторые, относящиеся к чинопоследованию таинств, стихотворения». См.: Творения блаженного Иеронима Стридонского: В 8 частях. – К., 1910. – Ч. 5. – С. 303, 364.
9 Там же. – С. 209-210.
10 Григорий (В. М. Лурье), иером. Время поэтов или PRAEPARATIONES AREOPAGITICAE: К уяснению происхождения стихотворной парафразы Евангелия от Иоанна // Нонн из Хмима: Scrinium Philocalicum. Tom. I (aev. V). – М., 2002. – С. 301.
11 Под «среднестатистическим» византийцем мы понимаем, прежде всего, человека, получившего школьное образование того времени.
12 Подобный социальнокультурный феномен существовал в середине I в. по Р.Х. в Александрии (См.: Хосроев А.Л. Александрийское христианство. – М., 1991. – С. 57-59). Совпадение указанных явлений в разное время и в разных географический регионах, вполне возможно, говорит о существовании устойчивой психологической модели христианизации эллинского культурного наследия, которой осознанно или не осознанно пользовались люди того времени.
13 Григорий (В. М. Лурье), иером. Цит. соч. – С. 305.
14 Именно с этим процессом связывает Владыка Иларион (Алфеев) идею создания таких произведений, как трагедия «Страждущий Христос». См.: Иларион (Алфеев), игум. Тема сошествия Христа во ад у восточных отцов Церкви IV-VIII веков и в западной богословской традиции // Церковь и время. – 2000. – № 4 (13). – С. 240.
15 Григорий (В. М. Лурье), иером. Цит. соч. – С. 258.
16 Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М., 1996. – С. 55-56.
17 Там же. – С. 58.
18 Созомен Эрмий (Саламинский). Церковная история. – СПб., 1851. – С. 356.
19 Григорий (В. М. Лурье), иером. Цит. соч. – С. 302.
20 Харизматин С.Н., Поспелов Д.А. «Эпическое Евангелие»: от Иоанна к Нонну // Нонн из Хмима: Scrinium Philocalicum. Tom. I (aev. V). – М., 2002. – С. 257.
21 Beck Hans-Georg. Kirche und theologische literature im Byzantinischen reich. München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1959. – S. 507-508; Чичуров И.С. Литература VIII-X вв. // Культура Византии: Вторая половина VII-XII в. – М., 1989. – С. 150.
22 К последним можно отнести прп. Романа Сладкопевца (Vв.), прп. Иоанна Дамаскина (VIII в.), Симеона Метафраста (X в.) и др.
23 Вопрос атрибуции этого произведения остается дисскусионным и на сегоднешний день. Помимо Григория Назианзина трагедию приписывали Аполлинарию Лаодикийскому (IV в.), Григорию Антиохийскому (VI в.), Иоанну Цецу (XII в.), Феодору Продрому (XII в.), Константину Манасси (XII в.) и, даже, Григорию Нисскому (IV в.). См.: Trisoglio F. Il Christus patiens. Rassegna delle attribuzioni // Rivista di Studi Classici. 1974. – № 22. – P. 351-423. Большинство же современных ученых относят время написания трагедии «Страждущий Христос» к XI-XII вв. и приписывают ее создание перу неизвестного автора, однако идея авторства Григория Назианзина присутствует в поздних работах таких авторитетных специалистов как А. Тюилье и Ф. Трисолио. См.: Tuilier A. Gregoire de Nazianze et le Christus patiens. A propos d’un ouvrage recent // Revue des Etudes grecques. – 1997. – № 110 (2). – P. 632-647; Trisoglio F. San Gregorio di Nazianzo e il Christus patiens. Il problema dell’autenticita gregoriana del drama. – Florence, 1996.
24 Фрейберг Л. А. Драматическое сочинение, по Еврипиду излагающее нас ради совершившееся воплощение и спасительное страдание Господа нашего Иисуса Христа (Христос-Страстотерпец). Пер. С.С. Аверинцева // Памятники византийской литературы IX-XIV веков / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. – М., 1969. – С. 221. Андре Тюилье в «Index Locorum Auctorum Antiquorum» указывает помимо приведенных трагедий Еврипида еще на реминисценции из «Альцесты», «Андромахи», «Елены», «Ифигении в Тавриде», «Ифигении в Авлиде», «Просительниц», а также из «Илиады» Гомера. См.: Gregoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragedie, introduction, texte critique, traduction notes et index de Andre Tuilier // Sources Chretiennes. – Paris, 1969. – P. 343-355.
25 Исследователи Гаспаров М.Л. и Рузина Е.Г. видели в таком выборе причину чисто внешнюю и тривиально простую – «составлять центоны из Гомера было (или было бы) слишком легко – так много в нем готовых формул, пригодных и обильно используемых для любых тем. Это лишало составителей удовольствия «борьбы с материалом», а читателей-слушателей – удовольствия вспоминать «точный адрес» каждого фрагмента». См.: Гаспаров М.Л., Рузина Е.Г. Цит. соч. – С. 198.
26 Влияние Гомера и Еврипида в интересующую нас эпоху было настолько велико, что образованные люди в своей разговорной речи употребляли цитаты из этих классиков наравне с фразеологизмами того времени. См.: Григорий (В. М. Лурье), иером. Цит. соч. – С. 301.
27 Анпеткова-Шарова Г. Г., Чекалова Е. И. Античная литература. – Л., 1980. – С. 102.
28 Эйкен Г. История и система средневекового мировоззрения. Пер. с нем. В.Н. Линд. – СПб., 1907. – С. 26- 27.
29 Анненский И. Эврипид, поэт и мыслитель // Вакханки. Трагедия Эврипида. Пер. И. Анненского. – СПб., 1894. – С. LXII; XXXVII.
30 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру. Пер. Г.А. Рачинского: В 2 томах. – М., 1996. – Т. 1. – С. 105.
31 Там же. – С. 105.
32 Тронский И. М. История античной литературы. – Л., 1996. – С. 153.
33 Там же. – С. 138.
34 Анпеткова-Шарова Г.Г. Г. Орткемпер о сценической технике Еврипида // LINGUISTIKA ET PHILOLOGIA. Сборник статей к 75-летию профессора Юрия Владимировича Откупщикова. – СПб., 1999. – С. 203; Эйкен Генрих. История и система средневекового мировоззрения: Пер. с нем. В.Н. Линд. – СПб., 1907. – С. 30.
35 Фрейберг Л. А. Цит. соч. – С. 221.
36 Журенко Н. Б. Архаическая образованность и новозаветная образованность в эпиграммах Григория Назианзина // Античная поэтика. Ритор. теория и лит. практика. – М., 1991. – С. 219.
37 Аверинцев С.С. Поэзия Нонна Панополитанского как заключительная фраза эволюции античного эпоса // Памятники книжного эпоса. – М., 1978. – С. 226.
38 Журенко Н. Б. Цит. соч. – С. 219.
39 Gregoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragedie, introduction, texte critique, traduction notes et index de Andre Tuilier // Sources Chretiennes. – Paris, 1969. – P. 70-71, 73.
40 Об идее использования мифологических сцен древнегреческой поэзии в качестве евангельских предуготовлений смотри в работе: Григорий (В. М. Лурье), иером. Цит. соч. – С. 303. Поиск параллелей между философией древней Греции и Св. Писанием евреев был характерен и для историка IV в. Евсевия Кесарийского в его полемическом произведении «Евангельское Приготовление», где он выдвигал мысль о «краже» древнегреческими философами богословских идей из Библии. См. об этом: Ястребов А.О. XI книга «Евангельского Приготовления» Евсевия Кесарийского // Церковь и время. – 2002. – № 3 (20). – С. 105-192.
Еврипид | Греческий драматург | Британника
Полная статья
Еврипид , (родился ок. 484 до н. Э., Афины [Греция] — умер 406, Македония), последний из трех великих трагических драматургов Афин, последовавших за Эсхилом и Софоклом.
Жизнь и карьера
Можно реконструировать только самую отрывочную биографию Еврипида. Его мать звали Клейто; его отца звали Мнесарх или Мнесархид. Одна традиция гласит, что его мать была овощеводом и продавала травы на рынке.Аристофан шутил по этому поводу в комедии за комедией; но есть и лучшие косвенные доказательства того, что Еврипид происходил из зажиточной семьи. Еврипид впервые удостоился чести участвовать в драматическом фестивале в 455 году и одержал свою первую победу в 441 году. Еврипид навсегда покинул Афины в 408 году, приняв приглашение от Архелая, царя Македонии. Он умер в Македонии в 406 году.
Еврипид.
Британская энциклопедия, Inc.
Единственной известной публичной деятельностью Еврипида была его служба в дипломатической миссии в Сиракузах на Сицилии.Однако он страстно интересовался идеями и владел большой библиотекой. Говорят, что он был связан с Протагором, Анаксагором и другими софистами и философами-учеными. Однако его знакомство с новыми идеями принесло ему беспокойство, а не убеждение, а его сомнительное отношение к традиционной греческой религии отражено в некоторых его пьесах. О частной жизни Еврипида мало что можно сказать. Позже традиция изобрела для него впечатляюще катастрофическую супружескую жизнь. Известно, что он имел жену по имени Мелито и произвел на свет троих сыновей.Один из них был чем-то вроде поэта и создал Вакчантов после смерти своего отца. Возможно, он также закончил незаконченную пьесу своего отца Ифигения в Авлиде .
Древним было известно 92 пьесы Еврипида. Сохранилось девятнадцать пьес, если включить одну, авторство которой оспаривается. Только на четырех фестивалях Еврипид получил первую премию — четвертую посмертно — за тетралогию, в которую входили Вакхантов и Ифигения в Авлиде .Поскольку Софокл одержал, возможно, целых 24 победы, очевидно, что Еврипид был сравнительно неудачным. Более того, Еврипид более 20 раз выбирался из всех претендентов в качестве одного из трех лауреатов года. Более того, регулярность, с которой его пародировал Аристофан, является достаточным доказательством того, что работа Еврипида привлекала внимание. Часто говорят, что разочарование от приема его пьес в Афинах было одной из причин того, что он покинул родной город в преклонном возрасте; но есть и другие причины, по которым старый поэт мог покинуть Афины на 23-м году Пелопоннесской войны.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Драматические и литературные достижения
Пьесы Еврипида демонстрируют его иконоборческое, рационализирующее отношение как к религиозным верованиям, так и к древним легендам и мифам, которые сформировали традиционный сюжет греческой драмы. Эти легенды, кажется, были для него просто сборником историй, не имеющих особого авторитета. Он также, очевидно, отверг богов гомеровского богословия, которых он часто изображает как иррациональных, раздражительных и совершенно незаинтересованных в отправлении «божественной справедливости».«То, что боги так часто представлены на сцене Еврипидом, отчасти объясняется их удобством в качестве источника информации, которая иначе не могла бы быть доступна публике.
Принимая во внимание это изощренное сомнение с его стороны, Еврипид придумывает главных героев, которые сильно отличаются от более крупных персонажей, столь убедительно нарисованных Эсхилом и Софоклом. По большей части это обычные, приземленные мужчины и женщины, у которых есть все недостатки и уязвимости, обычно связанные с людьми.Кроме того, Еврипид заставляет своих персонажей выражать сомнения, проблемы и противоречия, и в целом идеи и чувства своего времени. Иногда они даже берут перерыв в драматических действиях, чтобы обсудить друг с другом вопросы, представляющие текущий философский или социальный интерес.
Еврипид отличался от Эсхила и Софокла в том, что трагические судьбы своих персонажей почти полностью проистекали из их собственной порочной натуры и неконтролируемых страстей. Случайность, беспорядок, человеческая иррациональность и аморальность часто приводят не к окончательному примирению или моральному разрешению, а к очевидно бессмысленным страданиям, на которые боги смотрят безразлично.Сила этого типа драмы заключается в пугающих и ужасных ситуациях, которые она создает, и в мелодраматических, даже сенсационных, эмоциональных эффектах трагических кризисов ее персонажей.
Учитывая это сильное напряжение психологического реализма, Еврипид показывает моменты блестящего понимания своих персонажей, особенно в сценах любви и безумия. Его изображения женщин заслуживают особого внимания; из его пьес легко извлечь длинный список героинь, жестоких, вероломных или прелюбодейных, или всех трех сразу.Женоненавистничество здесь — слишком простое объяснение, хотя Еврипид в свое время пользовался репутацией женщины-ненавистника, а пьеса Аристофана « Женщины в Фесмофории » комично изображает негодование афинских женщин по поводу их изображения Еврипидом. .
Основными структурными особенностями пьес Еврипида являются использование им прологов и провиденциального появления бога (deus ex machina) в конце пьесы. Почти все пьесы начинаются с монолога, который, по сути, представляет собой голую хронику, объясняющую ситуацию и персонажей, с которых начинается действие.Точно так же эпилог бога в конце пьесы раскрывает будущую судьбу персонажей. Это последнее устройство было критиковано современными властями как неуклюжие или искусственное, но, по-видимому, оно было более приемлемым для аудитории времен Еврипида. Еще одна поразительная особенность его пьес состоит в том, что со временем Еврипид все меньше и меньше находил применение хору; в его последующих произведениях он имеет тенденцию отстраняться от драматического действия.
Слово, обычно используемое в древности для описания обычного стиля драматической речи Еврипида, — lalia («болтовня»), вероятно, намекая как на его сравнительно легкий вес, так и на разговорчивость его персонажей всех классов.Несмотря на это, лирика Еврипида временами бывает очаровательной и сладкой. В произведениях, написанных после 415 г. до н. Э., Его лирика претерпела изменения, став более эмоциональными и пышными. В худшем случае этот стиль трудно отличить от пародии на него Аристофана в его комедии Frogs , но там, где уместны неистовые эмоции, как в трагедии Bacchants , песни Еврипида непревзойдены по своей силе и красоте.
В последнее десятилетие своей карьеры Еврипид начал писать «трагедии», которые на самом деле можно было бы назвать романтическими драмами или трагикомедиями со счастливым концом.Эти пьесы имеют высокоорганизованную структуру, ведущую к сцене узнавания, в которой раскрытие истинной личности персонажа приводит к полному изменению ситуации, и в целом к счастливой. Сохранившиеся пьесы в этом стиле включают Ion , Iphigenia Among the Taurians и Helen . Пьесы типа трагикомедии, кажется, предвосхищают Новую комедию IV века до нашей эры.
Слава и популярность Еврипида затмили Эсхила и Софокла в космополитический эллинистический период.Суровая, возвышенная, по сути политическая и «религиозная» трагедия Эсхила и Софокла была менее привлекательна, чем трагедия Еврипида с ее более доступным реализмом и ее явно эмоциональными, даже сенсационными эффектами. Таким образом, Еврипид стал самым популярным из трех возрожденных его пьес в более поздней античности; Вероятно, поэтому сохранилось по крайней мере 18 его пьес по сравнению с семью каждой для Эсхила и Софокла, и почему сохранившиеся фрагментарные цитаты из его произведений более многочисленны, чем у Эсхила и Софокла вместе взятых.
Еврипид — пьесы, цитаты и факты
Еврипид был одним из великих афинских драматургов и поэтов Древней Греции, известным своими написанными им трагедиями, в том числе «Медеей» и «Вакханками».
Кем был Еврипид?
Еврипид был одним из самых известных и влиятельных драматургов классической греческой культуры; из 90 его пьес сохранились 19. Его самые известные трагедии, которые заново изобретают греческие мифы и исследуют темную сторону человеческой натуры, включают Медея , Вакханки , Ипполит , Алкестида и Троянские женщины .
Ранняя жизнь
Достоверно известно очень мало фактов из жизни Еврипида. Он родился в Афинах, Греция, около 485 г. до н. Э. Его семья, скорее всего, была зажиточной; его отца звали Мнесарх или Мнесархид, а мать звали Клейто. Сообщается, что он женился на женщине по имени Мелито и имел трех сыновей.
Пьесы и основные произведения
За свою карьеру поэта и драматурга Еврипид написал около 90 пьес, 19 из которых сохранились в рукописях.Из трех самых известных драматургов-трагиков Древней Греции — Эсхил и Софокл — Еврипид был последним и, возможно, самым влиятельным.
Как и все основные драматурги своего времени, Еврипид участвовал в ежегодных афинских драматических фестивалях, проводимых в честь бога Диониса. Впервые он принял участие в фестивале в 455 году и одержал первую из своих четырех побед в 441 году. Он был знаком со многими важными философами V века до нашей эры, включая Сократа, Протагора и Анаксагора, и ему принадлежала большая личная библиотека.
Еврипид покинул Афины в 408 году, когда его пригласил жить и писать в Македонии, Греция, Македонский царь Архелай. Он так и не вернулся в Афины.
Некоторые из самых известных трагедий Еврипида: Медея , Вакханки , Ипполит и Алкестида . Еврипид был известен новым подходом к традиционным мифам: он часто менял элементы их историй или изображал более подверженные ошибкам человеческие стороны их героев и богов.Его пьесы обычно посвящены темной стороне существования, с элементами сюжета страдания, мести и безумия. Их персонажи часто мотивированы сильными страстями и сильными эмоциями. Еврипид часто использовал сюжетный прием, известный как «deus ex machina», когда бог прибывает к концу пьесы, чтобы свести счеты и разрешить сюжет.
Работы Еврипида также отличаются сильными, сложными женскими персонажами; женщины в его трагедиях могут быть жертвами, но также и мстителями.Например, в « Медея » главная героиня мстит своему неверному мужу, убивая их детей, а также своего любовника. В другой пьесе, «Гекуба», рассказывается история бывшей царицы Трои, особенно ее горе из-за смерти своих детей и возмездие, которое она принимает убийцам своего сына.
Некоторые работы Еврипида содержали косвенные комментарии к текущим событиям. Например, Троянские женщины , изображавшие человеческие жертвы войны, были написаны во время Пелопеннесской войны (431-404 гг. До н. Э.).С.). Еврипид также иногда использовал сатиру и комедию в своих пьесах, и он часто писал дебаты для своих персонажей, в которых они обсуждали философские идеи. По всем этим причинам он стал известен как реалист и один из самых интеллектуальных трагиков.
Смерть
Еврипед умер в Македонии в 406 г. до н. Э.
Наследие и влияние
Еврипид прославился еще при жизни; он был даже изображен комедийным драматургом Аристофаном в сатире «Лягушки » и в других пьесах.Из-за его высокого статуса в греческой литературе его пьесы сохранились в рукописях, которые копировались и переписывались на протяжении веков.
Драмы Еврипида окажут влияние на более поздних писателей, таких как Джон Мильтон, Уильям Моррис и Т.С. Элиот. Роберт Браунинг и Элизабет Барретт Браунинг были еще двумя поэтами, которые восхищались им и писали о нем. Его пьеса « Циклоп » была переведена поэтом Перси Биши Шелли, а американский поэт Каунти Каллен перевел «Медея ».Пьесы Еврипида до сих пор адаптируются и ставятся для театра.
Десять наших главных греческих трагедий в письменной форме
Илиада (760–710 до н.э.), Гомер
Начинать рассказ посреди вещей — один из основных элементов современной литературы, в частности криминальной фантастики, во многом обязанной эпической поэме Гомера. После воззвания муз стихотворение открывается «in medias res», через девять лет после начала Троянской войны. Сюжет, полный поэзии, боевиков и запоминающихся персонажей, разворачивается, когда пара прекрасных девушек, Хрисейда и Брисеида, попадает в плен к ахейским воинам Агамемнону и Ахиллу.Ностос, концепция возвращения домой, которая позже была расширена Гомером в Odyssey , и kleos, слава в битве, являются центральными темами, исследованными автором.
Антигона (ок. 441 г. до н.э.), Софокл
Более чем вероятно часть трилогии с Царь Эдип , гражданское неповиновение и верность семье — основные темы, исследуемые в Антигоне. Продолжая тему «Семь против Фив » Эсхила, Антигона фокусируется на последствиях кровавой гражданской войны, в результате которой два брата погибли, когда вели свою сторону в битву. Креонт, новый правитель Фив, решает, что один брат будет удостоен чести, а другой публично опозорен, а его тело оставлено на поле битвы как падаль. Антигона — благородная и отважная сестра братьев, которая клянется ослушаться Креонта и сама похоронить своего брата Полиника.
Связанный Прометей , Эсхил
Мир Игры престолов выглядит мирным и гуманным по сравнению с наказанием Зевса титана Прометея, который вызвал гнев бога, дав огонь человечеству.Бедный Прометей, приговоренный к тому, чтобы быть прикованным к скале, пока орел клюет ему печень, чтобы вырасти заново, чтобы можно было проводить ритуал, придает новое значение термину до бесконечности. Часто упоминаемый как первый защитник социальной справедливости, Прометей был фигурой силы и достоинства, который бросил вызов Зевсу ради общего блага — чтобы принести людям прогресс. Большинство ученых приписывают эту работу Эсхилу, ставя под вопрос ее авторство и дату.
Одиссея , Гомер
Вторая крупная эпическая поэма, приписываемая Гомеру, Одиссея , на протяжении веков оказывала огромное влияние на литературный канон, вдохновляя произведения от Джойса Улисс до современной поэзии, такой как Карибские острова. Omeros поэта Дерека Уолкотта (1991). По мнению ученых, сам Гомер находился под влиянием ближневосточной мифологии из-за его рассказа о войне, приключениях, любви и возвращении на Итаку.Спустя десятилетие после окончания Троянской войны Одиссея все еще не видно. Пока его жена Пенелопа отбивает 108 женихов, ее сын Телемах обращается за советом к богам.
Орестея (458 г. до н.э.), Эсхил
Эта трилогия греческих трагедий рассказывает о проклятой семье Дома Атрея.Первая пьеса, Агамемнон , завоевавшая первый приз на фестивале Дионисии, рассказывает историю царя Аргоса, который возвращается домой к обманывающей жене, намереваясь убить его за то, что он принес в жертву их дочь. Еще больше мести во второй части, The Libation Bearers , когда дети Агамемнона, Электра и Орест, приступили к наказанию своей матери за убийство. Справедливость и последствия вырисовываются в третьей пьесе, Евменид , поскольку Орест расплачивается за грехи семьи.
Медея (431 г. до н.э.), Еврипид
Страсть, предательство, справедливость и месть — задолго до изобретения мыльных опер рассказ Еврипида о презираемой женщине развлекал массы. Ясон аргонавтов, возможно, победил бессонного дракона и захватил золотое руно, но он никогда не считал опустошения, которое он создал, оставив свою жену Медею ради другой женщины. Прославленная как образец раннего феминистского текста, пьеса оставалась наиболее часто исполняемой греческой трагедией на протяжении ХХ века.
Царь Эдип (ок. 429 г. до н.э.), Софокл
Часто приписываемая трагическая история царя Эдипа, пожалуй, самая известная из всех греческих мифов. Афинская трагедия «Царь Эдип » — это вторая часть серии Софокла о несчастном царе, который, несмотря на все свои попытки помешать этому надоедливому Оракулу, все же в конечном итоге убивает своего отца и женится на матери. Пример классической трагедии, в которой ошибки главного героя способствуют его падению, Аристотель Поэтика использует пьесу как шаблон для обсуждения классической структуры и сюжета.
Вакханки (405 г. до н.э.), Еврипид
Часть тетралогии, которая включает Ифигению в Авлиде и Алкмеон в Коринфе , Вакханки были написаны Еврипидом, когда он жил в Македонии. Фестиваль Дионисии, где занял первое место. Ярость богов снова занимает центральное место в этой трагедии, поскольку Пенфей, упрямый, но сочувствующий царь Фив, отказывается поклоняться новому богу Дионису.Бог вина, вечеринок и безудержной радости, какого вы никогда раньше не видели.
Лягушки (405 г. до н.э.), Аристофан
Комедия для разнообразия, хотя и пропитанная литературной критикой и классической драматургией. Со смертью Еврипида годом ранее Аристофан велел богу Дионису воскресить талантливого драматурга из Аида в попытке поддержать падающие стандарты греческой драмы. В одном из ранних примеров мета-фикции Еврипид сражается со своим соперником Эсхилом в воображаемой битве за лучшего трагического поэта Древней Греции.Подумайте о гладиаторах без кровопролития.
The Argonautica (c 246 — 221 до н.э.), Аполлоний Родий
Единственный сохранившийся эллинистический эпос, это стихотворение из 800 строк рассказывает историю Ясона и аргонавтов, путешествующих в далекую Колхиду, чтобы вернуть себе золотое руно. Аполлоний дает научный взгляд на популярный миф того времени, с исследованиями в области географии, этнографии и сравнительного религиоведения, наполняющих текст.Основное внимание в стихотворении уделяется отношениям между Ясоном и Медеей — до и после — при этом Аполлоний считается одним из первых авторов, взглянувших на «патологию любви». Отчасти приключенческая история, отчасти романтика, стихотворение дало Вергилию модель для его римского эпоса Энеида .
Еврипид, Классическая драма и театр
207 Классическая греческая трагедия: Еврипид, Классическая драма и театр
© Damen,
2021
Классическая драма
и Театр
Вернуться к главам
РАЗДЕЛ 2: КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ И ТЕАТР
Глава 7: Классическая греческая трагедия, Часть 3
В.Еврипид (ок. 485-406 г. до н. Э.)
А. Наследие Еврипида: избранные и алфавитный
Еврипид произвел что-то на
порядка девяноста драм, что несколько меньше, чем у его соперника Софокла
но тем не менее тот, который включает не менее двадцати записей в Дионисии.
Поскольку оба трагика великолепно писали и были примерно одного возраста — Софокл
был немного старше и пережил Еврипида на несколько месяцев — они, должно быть,
соревновались друг с другом в Дионисии, без сомнения, несколько раз.Вне
из этого, однако, они, кажется, мало что поделили, особенно количество
наград за первое место и заслуженного общественного признания.
Например, в начале своей жизни Софокл стал успешным драматургом
Дионисия (468 г. до н.э.), тогда как Еврипиду пришлось ждать немного дольше, чтобы
увидеть его первые работы (455 г. до н. э.) и получить высшую награду (441 г. до н. э.).
И хотя Софокл преуспел в этом много раз, за всю свою карьеру Еврипид
одержал всего пять побед — одна из них посмертно — но
даже так, он продолжал писать и продюсировать новаторские драмы до самого конца.
его жизни в буквальном смысле.Другими словами, один был из чистого золота, другой
закаленная сталь.
Хотя
никогда не был так популярен, как его высокопоставленные коллеги — не только Софокл
но давно умерший Эсхил ценился выше Еврипида во времена классической
Возраст, как наглядно демонстрирует Аристофан в своей комедии .
Лягушки — сохранившийся корпус Еврипида включает девятнадцать пьес и более.
чем то, что осталось от работы других вместе взятых. Это явная дань уважения его
дальновидность художника и его настойчивость перед лицом неблагодарного
толпа людей.Причина этого очевидна любому, кто когда-либо имел
счастье увидеть его пьесу на сцене.
Еврипид представлял себе один из самых ярких и провокационных театров в истории.
в западной цивилизации и, если его классические современники отказывались признавать
это — без сомнения, огорченные тем, насколько им это на самом деле понравилось! — их
дети и внуки были не такими скромными. Аудитории четвертого века
Греция с энтузиазмом восприняла драму Еврипида, призывая к возрождению
после возрождения его пьес и требования, чтобы их собственные артисты сочиняли пьесы в
еврипидовский стиль.Каждый художник, который боролся с бездушной публикой, должен
посмотрите на Еврипида как на образец того, как и зачем продолжать творить перед лицом
презрение, несправедливость и невежество.
Выжившие не только многочисленны, но и играют
Еврипида предоставляют некоторые из наиболее важных сведений о греческих
трагедия в целом. Девятнадцать дошедших до нас драм дошли до нас через две очень
разные пути. Одна группа, названная select, играет ( Alcestis ,
Андромаха , Вакханки , Гекуба , Ипполит ,
Медея , Орест , Финикийские женщины , Резус
и троянских женщин ), были десятью предписаниями в обязательном чтении в
позднегреческая и византийская школьная система — все четырнадцать трагедий, которые мы
Софоклом и Эсхилом принадлежат к одной и той же категории —
Скажем, все эти пьесы — признанная классика.(примечание)
другие группы называются алфавитных пьес ( Electra ,
Елена , Геракл , Дети Геракла , Походы
[ The Suppliants ], Ion , Ифигения в Авлиде , Ифигения
у тавров и киклопов [ циклопов ]), потому что они
скорее всего, из одной части (второго тома?) полного собрания Еврипида.
работа, изначально организованная примерно в алфавитном порядке.Это все драмы
названия которых начинаются с букв от E до K (по-гречески от эта до каппа) или
примерно вторая четвертая или пятая часть алфавита. Только из этого кажется
Можно предположить, что они сохранились не потому, что учителя литературы видели
их как наиболее эффективную драму для чтения в классе, но случайно, когда,
несомненно, один-единственный том из полного издания Еврипида появился на каком-то
точка в истории и был включен в десять «избранных пьес».» (Примечание)
Действительно, то, что, вероятно, было последним из этих алфавитных пьес ( Циклоп )
это даже не трагедия, а игра сатиров, фактически единственная сохранившаяся. (примечание)
Таким образом, алфавитные пьесы Еврипида представляют гораздо больше, чем просто
несколько дополнительных трагедий из классического корпуса. Это группа , а не
отобранных для сохранения читателями и поставщиками литературы, но
случайный принцип алфавита.Таким образом, они показывают, насколько широк диапазон классических
трагедия на самом деле была и сколько разных видов спектаклей в ней участвовало. Все
в целом, не будет преувеличением сказать, что существование алфавитного
пьесы — самый важный факт в классической драме.
А именно, если бы не такой набор пьес,
сегодня мы не только не осознаем некоторых типов трагедий, в частности,
мелодрам и спасательных пьес как его Хелен
как мы увидим в следующем разделе, но наше определение классической трагедии
также быть заметно уже, гораздо больше в соответствии с общепринятым взглядом на трагедию
как «трагичный», то есть с преобладанием несчастных концовок, серьезных размышлений,
угрюмые персонажи и так далее.Спасательные пьесы и мелодрамы показывают, что классические
трагедия могла повлечь за собой очень разные элементы: счастливый конец, беззаботный
персонажей и даже фарсовых ситуаций.
1. Елена : Мелодрама
Например, в Елена , Еврипид преследует явно
нетрадиционный взгляд на пресловутую красоту, «лицо, которое запустило
тысяча кораблей.«Как показано в этой« алфавитной пьесе »,
главный герой не является ни невольной жертвой похищения Пэрис, ни его
бессмысленный сообщник, тем самым обходя типичную дилемму
противостоящий тем античным авторам, которые писали о Елене. Фактически, согласно
Еврипиду в этой драме она вообще никогда не была в Трою! Вместо этого для всех
долгие годы, в течение которых греки сражались под Троей, а впоследствии
возвращаясь домой, Елена жила на берегу Нила в
Египет, куда боги волшебным образом перенесли ее до начала войны.Пленник
там о правящем фараоне, который, как большинство мужчин, жаждет ее, она сумела
ловко, чтобы держать его в страхе и ее добродетели нетронутыми, хотя и не без некоторой борьбы.
Далеко за морем, в Трое, что-то похожее на Хелен, женщину,
Греки и троянцы считались самыми красивыми в мире, на самом деле
не что иное, как «воздушный фантом», апокалиптическая голограмма, посланная
разгневанными богами, чтобы обманывать и уничтожать смертных на войне.Игра Еврипида начинается
с самой Хелен, объясняющей эту сложную и необычную ситуацию на открытии
пьесы. Затем она уходит с хором, собранием верных женщин.
ей, в храм ( skene ), который служит фоном для всего
драма.
Вкл.
на пустую сцену в середине пьесы — что-то весьма необычное в греческой трагедии — входит
ее муж Менелай , потерпевший кораблекрушение по божественному замыслу
в Египте.Он и привидение, которого он принимает за «Хелен», только что
пережил шторм, который пронесся его корабль на всем пути от Трои до Египта и затонул
это у побережья. Вымыв посуду на суше, он спрятал эту «Елену».
в пещере на берегу моря и приходите в город в поисках помощи.
После комической сцены, в которой старая служанка угрожает избить
благородный Менелай, если он попытается войти в храм, выходит Елена — настоящие
Хелен, которая видит не мужа, идущего спасти ее, а мокрую, изношенную,
очень нечеловеческое существо, выброшенное несчастным морем.Она кричит и бежит
от него. Вместо этого он видит свою жену Хелен и преследует ее по сцене,
умоляя, чтобы она не убегала от него.
Но затем он понимает, что эта женщина, которую он преследует , не может быть Хелен
потому что «Елена» находится в пещере, где он ее спрятал. Вместо этого она должна быть
какое-то демоническое египетское видение, поэтому он поворачивается и убегает от нее. На
В тот же момент она слышит, как он говорит, и узнает его. Понимая, что это
мужа, который, по-видимому, пришел наконец-то спасти ее, она тоже поворачивается
и начинает его преследовать.
Погоня меняется на противоположную — буквальное перипетий (внезапное изменение
удача, по-гречески «поворот»)! — пока Хелен, наконец, не улавливает
Менелай и пара воссоединились. В конце концов, спектакль благополучно заканчивается, поскольку наша
смекалистая героиня изгоняет своего похитителя, развратного фараона, с корабля, после чего
героический муж и верная, хитрая, красивая, загорелая жена убегают и спешат
дом.
Счастливый конец, немного комического насилия, прекрасная девица, нуждающаяся в спасении, день
на пляже — это отличительные черты мелодрамы, комедии и популярного
развлечение, а не трагедия в любом смысле слова, хоть какие-то современные
смысл слова.Так что, если бы не случайность выживания «буквенного
пьес «мы бы и не подозревали, что такие драмы вообще могут быть
преподносится как трагедия на классической греческой сцене. Только за это мы многим обязаны
благодаря упорно бунтующему Еврипиду и удачному несчастному случаю
что сохранило для нас такие развлечения. В свете этого кажется
можно с уверенностью сказать, что не все козлиные песни были нацелены на то, чтобы быть Эдипом Софокла,
как Аристотель хотел бы заставить нас поверить.
Б. Жизнь Еврипида
Тем не менее, при всей своей нестандартности и непочтительности, Еврипид родился в
респектабельная афинская семья, которая, хотя и не была такой зажиточной, как Софокл, была
конечно выше среднего класса. Однако несколько раз в своих комедиях Аристофан
попугаям популярную в свое время шутку о том, что мать Еврипида была «овощной лавкой» — мы
понятия не имею, о чем идет речь в шутке — означает ли это, что она продавала овощи
на афинском рынке? Это кажется маловероятным для светской женщины.
положение, которым пользовалась ее семья.
Насмешка комического поэта, даже если она основана на необоснованной прихоти, указывает на одно
как минимум важный аспект жизни трагика: как мало достоверных данных
находятся. В отличие от Софокла, историю жизни которого можно хотя бы набросать
практически все, что до нас доходит о Еврипиде-человеке
попахивает сплетнями и сенсациями. Таким образом, можно смело выбросить биографии.
которые утверждают, что его собственный неблагополучный дом и брак стимулировали множество
трудности, с которыми так часто сталкиваются мифологические семьи в его пьесах.Такой
рубец — очевидный исторический наполнитель, явный признак того, что сами древние
имел мало достоверной информации о человеке за масками.
Не имея даже намека на правду, эти тени обрамляют все больше и больше
значительная правда. Тайна, окружающая жизнь Еврипида, несомненно, проистекает из
от его очень приватной натуры. Опять же в резком контрасте с Софоклом, который
играл видные общественные роли на протяжении всей классической эпохи, Еврипид был -дюймовым угрюмым
и непривычно «, согласно одному древнему источнику (Александр Этол),
предпочитая побыть в одиночестве, а не делить компанию с другими.Это что-то
довольно необычно среди древних, которые, как правило, тратили подавляющее большинство своих
живет если не на улице, то хотя бы в окружении других.
Кроме того, он, как говорят, любил читать книги сам, опять же
ненормальное поведение для своего времени, поскольку в древних текстах, то есть свитках
писцы должны были переписывать по одному от руки на папирусе, импортированном из
Египет — были дорогими и редкими, поэтому их чаще всего произносили вслух.
компания друзей для всеобщего удовольствия.Еврипид, однако, как нам говорят,
предпочитал сидеть в одиночестве в пещере на территории своей семьи и читать
в тихом одиночестве.
Верно ли это или нет, противоречивый и новаторский драматург
явно оторвал себя от большинства аспектов общественной жизни — и от политики
полностью — вместо этого предпочитая изучать работы передовых философов
днем среди них опасно аморальные «софисты»,
и, в общем, размышляя о нетрадиционных способах мышления, утверждение
его пьесы поддерживают грандиозную театральную манеру.Они показывают очень умный
ум, увлеченный философскими проблемами, с сильным отвращением к некритическим
принятие условностей: мыслитель со вкусом сенсационного, который знает
что в жизни нет ничего легкого или простого, и все связано с красивыми бантами.
Трагедия Еврипида также раскрывает сверхъестественную способность драматурга видеть все.
стороны в споре, мало обращая внимания на то, что считалось правильным в
день и, вместо этого, обслуживая то, что драматическая ситуация показала
чтобы быть правым — что такая мать, как Медея, например, может иметь
некоторая доля права на ее стороне, даже если это заставляет ее убивать собственных детей — или
если не правильно, то хотя бы некоторая степень праведности.Античные критики указали
как будто мы не могли увидеть это своими глазами, у Еврипида было необычайное
талант предвидеть обычные мифологические ситуации в таких ярких деталях
что он, кажется, всегда готов найти новые и оригинальные способы представления
самые общие места традиционных греческих знаний.
C. Экстаз агона
Если бы Еврипид действительно имел естественную
антагонизм по отношению к человеческому обществу, поэтому неудивительно, что его персонажи
кажутся отражающими их авторский нрав и часто участвуют в сложных
и провокационная форма дебатов называется агон ,
своего рода законническое противостояние, в котором один персонаж играет обвинителя
и другой подсудимый, и жизнь или благополучие одного (или обоих!) зависает
в балансе.(примечание) На самом деле, очень немногим из сохранившихся пьес Еврипида не хватает агона . (Примечание)
Даже троянских женщин , трагедия во многих отношениях мрачная и условно
трагедия, останавливает драматическое действие в середине пьесы, так что Хелен и
Гекуба может обсудить перед Менелаем за и против поведения Елены.
во время войны.
И есть веская причина, по которой Еврипид так часто включает эти агонов .
Было — и есть! — увлекательно смотреть, как разворачивается действие на сцене, даже несмотря на то, что они раздражали аудиторию Еврипида, хотя трудно поверить, что это не входило в его намерения.В этих надоедливых диалогах Еврипид почти никогда не дает четких указаний на то, что
сторона явно правильная или неправильная. Вместо этого он оставляет это
зрителям решать для себя моральные вопросы, поднятые на сцене.
Хуже того, у него был дьявольский инстинкт, как устроить такой спор.
что после того, как его поймали в ярком свете прожектора Еврипида,
«правильный» ответ — то есть то, что было общепринятым и принятым,
то, что каждый порядочный, моральный, не очень глубоко мыслящий человек считал правильным — посмотрел
смешно, возможно, даже неправильно.Древние называли этот вид софистики
«делая более слабый аргумент более сильным» — явный признак их разочарования
что они не могли обойти какой-то дьявольски умный аргумент, но даже в этом случае
отказался признать его действительность.
1. Еврипид Критяне
Помимо того, что у нас есть хотя бы один агон в каждом
мы знаем, что Еврипид написал, хороший пример этого устройства был
найдено на папирусе, раскопанном в Египте.Многие такие папирусы хранят отрывки из утраченных пьес Еврипида — убедительное свидетельство
к его популярности в более поздней античности — и их содержание показывает причину. Еврипид
справляется с трудными и неприятными ситуациями с ликованием в лоб, и он, очевидно, делает это.
из-за (не несмотря на) беспокойства его сверстников, сидящих рядом с ним в театре
должно быть, чувствовали, когда слушали, как разворачивается спор. В этом случае папирус
сохраняет половину агона из Еврипида Критяне (примечание),
пьеса, построенная вокруг сказки о рождении чудовищного Минотавра .
Миф гласит следующее. Бог моря Посейдон дал Миносу ,
всесильный правитель Крита и любимец богов, красивый белый
бык, при том понимании, что Минос должен был принести его обратно в благодарность.
Но Миносу понравился бык и он решил оставить его себе. Возмущенный этим безобразием, Посейдон
проклял царя, заставив его жену Пасифаю влюбиться в
животное.
Попав в ловушку, казалось, безнадежной привязанности, она наконец-то достигла
ее похоть, надела коровью шкуру, побудив быка заняться с ней любовью и, ужас
ужасов, забеременев от него.Существо, которое она родила, было получеловеком
полубык Минотавр, человеческий младенец с бычьими рогами, от которого она пыталась спрятаться
ее муж после ее рождения. Но Минос обнаружил халфлинга — и вместе с ним
с ним вся правда! — затем выступил против своей жены, обвинив ее в неестественном
страсть.
В своей половине дискуссии,
что, по сути, было аргументом обвинения, Минос должен был предъявить обвинение своей жене
со зоофилией. К сожалению, эта речь утеряна, но многое из того, что Минос
сказанное может быть получено из последующего ответа Пасифаи, части .
Критяне , сохраненные на папирусе.Судя по ее защите, он осудил
ее диковинное поведение, обвиняя его в потворстве своим желаниям эротизму — типичный
поведение распутной, избалованной принцессы — и поклялся казнить ее
за такое преступление, утопив ее в море. Она отвечает следующим образом:
Я вижу, что отрицание того, что произошло, ни к чему не приведет.
Факты очевидны. Вы мне просто не верите.
Предположим, я бросил свою плоть в мужчину,
Не бык, продающий себя, как какая-то афродита на закоулке,
Тогда, я полагаю, вы, , могли бы называть меня «шлюхой» с некоторым основанием.
Но пошли, это боги послали на меня это безумие —
Смогу ли я причинить себе такую боль добровольно? Нет,
Скорее всего, не! Это не имеет никакого смысла. Какая часть быка
Смог бы я взглянуть на свое сердце и укусить его таким недугом?
Насколько хорошо он был одет? Насколько хорошо он выглядел в своем peplos ?
Его каштановые локоны? И блеск вина, который сиял
В его глазах и румяных щеках в пятнах?
Его плоть не была такой сливочной, как у моего любовника.
Чтобы лечь в постель с ему , я надела
четвероногого.
Кожа и покрыла мое тело! Это то, что меня возбудило?
Создание детей казалось маловероятным, не из
Такой муж. Так что нельзя сказать, что я сделал это ради этого.
Все просто: я сошел с ума. Бог этого человека сожрал меня злом,
И он заслуживает большей части вины.
Он не принес быка в жертву, как обещал
Он поступит, этот призрак, посланный его морским богом.
Вот почему он охотится за вами, мстя за несправедливость
Вы сделали ему , Посейдон, и он уничтожил
мне .
Итак, , вы, , призываете богов засвидетельствовать это,
Вы, , тот, кто все это сделал, навлек на меня этот позор.
Я тот, кто должен был это вынести, и ни за что Я сделал,
Нет, я пытался скрыть бедствие богов, посланное с небес,
Но ты , ты считаешь, что лучше распространять «хорошие новости»
О своей жене — ты должен быть самым глупым человеком на земле! —
И вы трубите об этом, как будто не принимаете в этом никакого участия.
Ты мой разрушитель, твой ошибка,
Это , а у нас . Но не останавливайтесь на достигнутом! Брось меня
В море, если ты этого хочешь. Сделай это! Не было бы
В первый раз, когда вы согрешили и кого-то убили, не так ли?
Или съешь мою живую плоть, если тебе так нравится,
Сразу с моего тела! Вот и хватит для сытной трапезы.
Мы свободные люди, а также свободные от греха,
Но чтобы заплатить штраф за ваших аппетитов, мы умираем.
Об этой речи следует отметить несколько моментов. Во-первых, Пасифа передает
ощущение, что публика наблюдает и взвешивает ее («Бог этого человека съел
мне со злом. . . »), почти или совсем не чувствуя, что это невидимая« четвертая стена »
стоит между ней и зрителями. Во-вторых, попросив ее обратиться к слушающим
прямо — это хор или афинская публика в Театре Диониса?
или, может быть, оба сразу? — Еврипид преуменьшает
внутренности ее персонажа и питает представление о том, что персонаж
видит себя в суде, предстает перед присяжными, защищает свои действия и
оправдывая свой выбор.
Наконец, расположение сцены, по крайней мере, в той степени, в какой мы ее имеем, склоняет зрителя на сторону Пасифа, который делает несколько отличных замечаний, неудобных
перспектива для большинства людей, особенно типичных греческих мужчин в древней аудитории. Она
похотливая иностранная принцесса, которая практиковала зоофилию и межвидовая
в результате смешанного брака родился смертоносный бык, в общем, не из тех женщин-рациональных
Афиняне в классическую эпоху обычно женились и уезжали домой к своим матерям.Но в этой драме Еврипид делает более трудным, чем должно быть, увидеть
дела обстоят так, как естественно хотели зрители, то есть спорить без оговорок
что прелюбодейная Пасифа виновата, а не ее муж-рогоносец.
Похоже, что одна из причин, сделавших эту трагедию такой неотразимой, — и
такая трагедия, что весь спектакль теперь утерян — как сенсационно вкусно
это было, хотя при этом трудно глотать.
2.Еврипид и радикальные правые
Потому что агонов Еврипида одновременно сводили с ума и очаровывали,
они также были опасны. В древнем театре, наполненном как бы
интеллектуально беспокойная толпа, некоторые видели склонность Еврипида к подъему спорных
и нестабильные проблемы, такие как разжигание инакомыслия и разжигание неповиновения государству.
Что еще хуже, его дьявольский талант видеть все стороны спора мог быть
воспринимается как попытка нарушить надлежащее образование молодежи.В каждом обществе есть
те, кто считает, что молодым людям нужно говорить
как думать и буду слушать такие инструкции. Таким образом, даже в первой в мире демократии сторонник либеральной
и сложные мысли, подобные Еврипиду, находили критику и сталкивались с презрением и насмешками.
Они нисколько его не остановили.
Напротив, на протяжении большей части своей карьеры Еврипид создал блестящую драму.
пропитаны раздражающими агонами . В результате его убедительные, но полемические
драма завораживала театральную публику, как афинян, так и приезжих, и помогла
сделать Дионисию обязательным для посещения событием в Эгейском мире каждый год.Все
в целом, взаимодействие Еврипида со зрителями было очень успешным, если не сказать
совершенно здоровые отношения, которые в конечном итоге были обречены.
Когда положение афинян стало отчаянным к концу Пелопоннесского
Война (412-404 г. до н.э.), они набросились, как и раненые существа, на все, что
раздражали их. Софисты, ученые и всякие нетрадиционные элементы
в их обществе были вынуждены бежать из-за конвульсий внутренней борьбы.Среди изгнанных был Еврипид. Старик к тому времени, когда он наконец упаковал
поднялся и ушел (408 г. до н.э.) — насколько нам известно, он никогда не жил за пределами
Афин — последние годы жизни он провел за границей, в Македонии, но, тем не менее
что ж, король мог лечить его, он не мог чувствовать себя как дома в
такое место. Сомнительно, например, чтобы был театр в пределах ста
миль.
Наверняка, за какое-то время до того, как он был вынужден покинуть Афины, Еврипид
знал, что его изгнание неминуемо, что должно быть ужасно ужалило — знать
приближается инъекция, только усугубляет боль — и этому есть доказательства
в последней трилогии он поставил в Театре Диониса.В нем он запечатлел
столь поразительно яркая картина безумия, охватившего его родную
полис , поскольку Пелопоннесская война продолжается без сожаления своим жалким
и бессмысленный конец, трудно представить себе это драматическое нападение как что-либо иное
чем ехидное прощание и последнее слово предупреждения его любимой, но сломанной родине.
Среди этой трилогии — одна из девятнадцати сохранившихся пьес Еврипида: Orestes ,
которые мы уже обсуждали выше.Теперь
давайте посмотрим на это еще раз более внимательно, на этот раз в контексте истории и
Жизнь Еврипида.
Д. Орест
Согласно предисловию, приложенному к лицевой стороне рукописи Ореста ,
эта пьеса была самой популярной трагедией Еврипида в постклассическую эпоху, часто возрождавшаяся
на сцене в четвертом веке и после. Нетрудно понять почему. А
блестящий театральный тур-де-сила, Orestes идет по тонкой грани, которую пытались преодолеть многие драматурги, но немногие из них когда-либо удавалось: и то и другое.
традиционный и революционный, смертельно серьезный и беззаботно фарсовый, верный
к сюжету « Орестеи » Эсхила, но вряд ли ее дух и, прежде всего, жестокий
яркая картина человеческой жизни в худшем виде, парадоксальным образом заключенная в послание
надежды и спасения.Потому что он составляет одновременно так много разных вещей,
что люди видят, когда смотрят Орест часто говорит по крайней мере как
много о них как о пьесе. Если какая-либо драма является «зеркалом» Шекспира,
это оно.
Шедевр, который одновременно переводит и превосходит свое время, он был в свое время
нежное и жестокое прощание с Афинами. Однако, с нашей точки зрения, так много
столетия назад он также жалит зловещим ядом, поцелуй крестного отца в
Щека всему человечеству.Когда Еврипид писал это, он, должно быть, сомневался, что
когда-нибудь снова иметь возможность увидеть одну из его работ, поставленных на сцене, но
в то же время суровое несчастье надвигающейся ссылки не наказало его
ни преклонил свой дух. Орест такой же бескомпромиссно кислый, как и еврипид.
когда-либо существовала, неизменно суровая картина человеческого общества. Глядя в ствол
из Орест , большинство людей моргают раньше, чем Еврипид.
Спектакль открывается посреди отчаяния и уныния, в поворотный момент повествования после
главный герой убил свою мать Клитемнестру, но до его последующего
суд и оправдание в Афинах.Еврипид решил инсценировать этот момент в
миф как минимум по двум причинам: во-первых, потому что Эсхил
не было — Орестея пропускает этот раздел истории, который
попадает в промежуток между второй и третьей пьесами трилогии (
Носители возлияния и Евмениды ), а также потому, что он
это последовательность, полная драматического напряжения и потенциала. На данный момент в мифе
например, появились фурий и начали преследовать
Орест и Фурии всегда на пользу драматургов
иметь за кулисами.
Хотя он убил свою мать по наущению бога Аполлон
и с помощью его сестры Electra и друга Пилада,
В этот момент Орест стоит один, неся тяжесть своей вины. Аполлон еще
чтобы снова появиться и спасти его. Размещение титульного персонажа на этом этапе
там, где Эсхил быстро перешел от мести к искуплению, Еврипид может
сделайте стоп-кадр своего героя и разыграйте ужасы его неопределенного будущего.Даже
если бы мы видели драму Эсхила и знали, что Орест будет оправдан в
Конца он и его товарищи в этом спектакле нет.
В первой сцене Орест лежит в постели без сознания, измученный галлюцинациями.
фурий. Его сестра Электра стоит одна рядом с ним. Все остальные, кроме его
друг Пилад покинул его, интерпретируя его заблуждения как знак вины
и проклятие богов. Сам город Аргос решил попробовать как сестринские
и брата по обвинению в матереубийстве в тот же день, и братья и сестры
осталась только одна надежда.Их дядя Менелай только что вернулся из Трои и принес
домой его красавица жена Елена после десяти лет войны.
Если Менелай, победоносный полководец, поддержит их в суде, мало шансов
существует, они могут избежать осуждения и казни. Иначе ничего нет
им остается только ждать смертной казни, какой бы несправедливой она ни была. Электры
первые слова: «Нет ничего …», сказанные в самом начале
о самой пьесе, хотя она продолжает: «.. . ничего, что люди
не могу терпеть », отчаянный крик о том, что жизнь как-то может и должна продолжаться.
«Ничто» подводит итог этой пьесе лучше, чем ее нежное убеждение, что есть
нет ничего сверх человеческой выносливости.
Введите Хелен, а не сообразительную и находчивую героиню из более ранней пьесы Еврипида.
назван в ее честь (см. выше), но более традиционный и типичный
Хелен, бессодержательная, тщеславная, манипулятивная королева красоты. Ее первая строчка в пьесе,
говорил со своей убитой горем племянницей Электрой: «Все еще не замужем, дорогая,
после всего этого времени? «- показывает чувствительность, от которой можно ожидать
увядающие звездочки.
Хелен покинула дворец, чтобы спросить Электру, примет ли она похоронные подношения.
к могиле ее «дорогой умершей сестры Клитемнестры». Ошеломлен тем, что
Каждый должен просить, чтобы соучастник убийства приносил жертвы в могилу
жертвы, Электра отказывается и говорит Хелен самой пойти туда. Хелен, однако,
боится аргивян, семьи многих из которых были уничтожены во время войны. Она
беспокоит, что они обвиняют ее в смерти друзей и семьи и будут пытаться
чтобы убить ее, если она покажет свою щедрость на публике.Она может быть пустой, но она
правильно об этом. Очевидно, она усвоила одну вещь из своих мучений в Трое:
как не быть побитым камнями толпой.
Электра предлагает вместо этого послать свою дочь Гермиону. Рад любому
способ избежать сумасшедшей толпы, Хелен вызывает Гермиону и отправляет
молодая девушка со своими подношениями для своей покойной сестры. Хотя греческий
женщины должны были отрезать волосы и положить их на могилу умершего
родственница, когда Хелен отступает во дворец, Электра замечает, что она
обрезал только кончики волос — она должна оставаться красивой, иначе Менелай
может потерять интерес — и дал Гермионе лишь скудные подсказки о том, что
явно жалкое горе.
Входит хор и, хотя Электра пытается
их
разбудить Ореста, который сначала кажется вполне нормальным, но вскоре страдает приступом истерики.
заблуждение, когда он слышит упоминание о своей убитой матери Клитемнестре. Он прыгает
и начинает стрелять по вещам, которых нет, из несуществующего лука.
Электра сидит и жалобно плачет, потому что любит своего брата — любит его
так сильно! — и ненавидит видеть его безумие.(примечание)
Один за другим появляются другие персонажи, каждый со своим особенным рюкзаком.
противных привычек. Менелай сначала показывает себя типичным политиком, жестоко
амбициозен, не проявляет интереса к тем, кто не может продвинуться по карьерной лестнице. Племянник
или нет, матереубийство вроде Ореста не вписывается в его нынешнюю политическую повестку дня,
поэтому он отказывается оказывать помощь, заявляя, что он беспомощен, — наглая ложь.
Что еще хуже, пока Орест умоляет Менелая о помощи,
Спартанец Тиндарей — Тиндарей — отец Клитемнестры, таким образом, Орест.
дед — появляется внезапно без предупреждения.Он приехал в Аргос, чтобы
требовать смертной казни как для своих внуков, так и для всех, кто причастен к
в любом случае с убийством его дочери Клитемнестры. Когда он вынужден признать
она сама была убийцей, возражает Тиндарей, если бы она не была уже мертва,
он убьет ее сам. В конце концов, «смерть и месть» кажутся
быть всем, что знают эти самодовольные, жестокие спартанцы, время от времени.
Оресту остается идти на собрание один, пока его хороший друг Пилад
появляется.В древности Пилад был образцом идеального друга, но здесь
он больше злодей, чем друг. Он сказал бы, что не просто преданный и верный союзник.
что угодно, сделай что угодно, чтобы помочь своему товарищу Оресту. К нему все приходит
вторые после дружбы: семья, смертность, нравственность. Хотя роль Пилад в фильме Клитемнестры
убийство в пьесе не раскрывается, он утверждает, что сыграл главную роль.
В общем, он в меньшей степени приятель Ореста, чем его товарищ по банде.
и вместе они идут навстречу гневу толпы, пока Орест предстает перед судом.
за убийство.
Дела идут плохо, или так Электра слышит от посыльного, который «только что случилось
пройти мимо «- разумеется, Еврипид смахнул на удобство и
частота «посланников» в греческой трагедии — и вернулась
сообщить о результатах судебного разбирательства. Стая злобных демагогов хлестала
толпа в неистовстве гнева, направленном против потомков Агамемнона. В конце концов,
собрание приговорило брата и сестру к смерти единой милостью
что паре будет разрешено убить себя, а не терпеть унижение
публичной казни.
Когда Орест и Пилад трагически возвращаются на сцену, они находят Электру плачущей.
в ужасе от новостей. Братьям и сестрам нужно время, чтобы плакать, а затем еще один
момент, а затем еще несколько. Под аккомпанемент Pylades получается
в ораторию печали. Если подумать, все это так несправедливо. После
в общем, это не было , по их вине они замышляли и убили Клитемнестру. Сбрасывать
убил Агамемнона, своего отца. Вдобавок бог Аполлон приказал им
сделать это.Где несправедливость в наказании убийц? Будьте честны, не убийцы
жертвы тоже?
Охваченный их мраком, Пилад настаивает на том, чтобы присоединиться к ним после смерти, но, как сказал Орест,
наконец уходит, чтобы убить себя, — внезапно говорит Пилад.
синего! — «Ну, раз уж мы должны умереть, посмотрим, не сможем ли мы сделать
Менелай тоже страдает! «Орест говорит:» Дорогой друг, если бы я только мог
увидишь это, прежде чем я умру! »« Итак, — говорит Пилад, — давай ударим его.
где болит.Убьем Елену! »
«Убить Хелен?» — спрашивает пораженный Орест, конечно, не единственный.
в Театре Диониса в тот день в 408 г. до н.э., чтобы быть шокированным этим предположением.
Действительно, некоторая часть афинской публики, несомненно, встала в унисон и
помахали своим коллективом Odysseys Еврипиду, который наверняка сидел
в театре с ними, и указал на Книгу 4, где Хелен все еще
жив через много лет после возвращения в Грецию с Менелаем.И Еврипид, это
кажется безопасным заключить, ухмыльнулся и сделал вид, что не замечает их.
Все глубже погружаясь в безумие, Пилад и Орест замышляют, как они будут
убить Хелен. Они решают зайти во дворец, где в данный момент находится Хелен.
ее охраняли только ее троянские рабы, простые восточные слабаки. Они принесут
их мечи под предлогом самоубийства, но вместо этого убейте ее .
Долгое время молчал — вероятно, из зависти, подумал Пилад.
этот план, прежде чем она сделала — Электра внезапно вмешивается, «Гермиона
пошел к могиле Клитемнестры.Когда она вернется, вы можете схватить ее как свой
заложник. Таким образом мы сможем уберечь Менелая от попыток навредить кому-либо из нас «.
Мальчики одобряют и хвалят ее за то, что она думает «как мужчина».
В одном из немногих истинных триалогов классической трагедии все трое объединяются.
молитва мести, обращенная не к Аполлону, фактически не к какому-либо богу, а к
призрак мертвого Агамемнона. Вуду — это все, что есть у этих безумных детей.
осталось верить в:
ПИЛЫ : Агамемнон, услышь нашу молитву! Пощадите своих детей! ORESTES : Я убил свою мать! ELECTRA : Я коснулся лезвия. ПИЛЫ : И я замышлял, не колеблясь. ORESTES : В помощь, отец! ELECTRA : И я не предал тебя. ПИЛЫ : Услышав наш позор, не спасешь ли ты?
нас?ORESTES : Я плачу по тебе. ELECTRA : Я глубоко оплакиваю тебя. ПИЛЫ : Достаточно
это. У нас есть работа!
Орест и Пилад выходят во дворец, намереваясь убить Хелен, как Электра
ждет снаружи, подбадривая их, хор позади нее.
Через мгновение за кулисами раздаются предсмертные крики Хелен.К настоящему времени Еврипид
аудитория, должно быть, думала: «Подожди! Хелен не может умереть! Не только она
жива в Гомере позже, но она бессмертна! Это, должно быть, еще один ложный сюжет,
еще одна из тех красных сельдей , которые мы так часто видели в Еврипиде.
Слава богу, он уезжает из города. Интересно, что будет дальше «.
Войдите в Гермиону, вернувшуюся из гробницы Клитемнестры. Как паук, плетущий паутину,
Электра радостно заманивает невинную девушку внутрь к ожиданию Ореста и Пилада.
лезвия и следует за ней во дворце.На сцене ненадолго нет актеров,
когда хор, которого Электра велела громко петь, отчаянно танцует и пытается
чтобы заглушить панические крики Гермионы.
Как будто этого было недостаточно, невероятное теперь начинает вальсировать с
невозможно. Необходимая речь посланника, которая традиционно следует за важными
закулисное действие в греческой трагедии — только так греческая публика может
узнать, что произошло, поскольку греческий театр не в состоянии
представить на сцене что-то вроде реалистичной крушения колесницы — эту речь
присваивается человеку , который плохо говорит по-гречески .Мы могли бы вообразить
что одно обязательное требование быть посланником в греческой трагедии — это
уметь говорить по-гречески, но, видимо, не в Еврипиде.
Вселенная.
Троян
раб , один из подхалимленных фригийских евнухов Елены, выползает из дворца
через дыру в крыше и выбегает наружу, чтобы сообщить, как Орест и Пилад
Заговор с целью убийства Елены развернулся. (Примечание)
Описание нападения на Хелен на его ограниченном греческом языке периодически просачивается.
через каскад оборванных фраз, затяжных стенаний и экстравагантных варварских
размахивание руками (примечание): «О Троя, Троя!
О горе, горе! Город Фригий и такая милая гора Ида, святое место, ты мертв, я стону,
в чужеземном трауре, птичье лицо с лебединой прелестью, щенок Леды, садхелен,
садхелен! «(пер.Wm. Эрроусмит)
Из длинного и очень занимательного, но искаженного сообщения троянского раба,
аудитория собирается на самом деле очень мало. Ясно, что Орест и Пилад атаковали
Хелен, но среди их насилия она исчезла, по словам фригиец,
и, видимо, никто точно не знает, как и куда. И так же, как троянец
раб заканчивает свою речь посланника, выходит Орест, вооруженный и сердитый
и ищу «того раба, который убежал от моего меча.«
Дрожащий миньон падает на колени, умоляя сохранить ему жизнь, и в Оресте.
запугивая этого беззащитного домочадца, он показывает, какой он на самом деле человек,
напуганный ребенок в душе, злоупотребления которого научили его немногим больше, чем тому, как
злоупотреблять:
ORESTES : А Елена? Она умерла справедливо, не так ли? ТРОЯНСКИЙ РАБ : О, по правде говоря! Трижды перерезать горло,
мне все равно.ORESTES : Ты просто говоришь это, чтобы доставить мне удовольствие. Это
не то, что вы на самом деле думаете.ТРОЯНСКИЙ РАБ : Нет! Она тоже стерла греков до троянцев. ORESTES : Неужели все вы, троянцы, так боялись меча? ТРОЯНСКИЙ РАБ : Не так уж и близко с мечом, понятно? Блеск смерти
обратно в это.ORESTES : Раб, и он боится смерти. Я бы подумал
ты бы хотел умереть.ТРОЯНСКИЙ РАБ : Жить любят все, даже раб. ORESTES : ( смеется ) Хорошее замечание! Ваш острый
остроумие спасает вас. Пробраться внутрь!ТРОЯНСКИЙ РАБ : Я не убью? ORESTES : . Вы ушли. . ТРОЯНСКИЙ РАБ : . . Хорошие слова вы говорите. ORESTES : Но я мог передумать. . ТРОЯНСКИЙ РАБ : . . ( беговых
внутри ) Слова нехорошие те!
Орест самодовольно возвращается во дворец и запирает ворота.
Услышав слухи о беспорядках во дворце и опасаясь за жизнь Елены, Менелай
выходит на сцену в сопровождении вооруженного эскорта. Когда он кричит, чтобы кто-нибудь открыл
ворота дворца, Орест, Пилад и Электра появляются на крыше над ним.Электра и Пилад держат факелы, готовые зажечь дворец в огне, если Менелай
атаки. Орест держит нож у горла Гермионы.
Угрозы и оскорбления летают туда и сюда. Без надежды на разрешение, Менелай
вызывает подкрепление и готовится к осаде дворца. Клинок Ореста толкает
против горла Гермионы. Пламя лижет стропила. Мечи обнажены. Конец
на них всех.
Тогда над дымом и горячими страстями летает бог Аполлон, принося
с ним недавно обожествленная Елена.Парящий на механе
над всеми на сцене — и над большей частью театра — бог разума
и свет, это разумное божество, которое делает сыновей настолько логичными, что они убивают
их матери, призывает остановить все смертельное безумие, кипящее под ним.
«Это не план богов, что так все должно закончиться.
Хелен будет со мной богиней на небесах. Менелай снова женится «- в
Другими словами, это другая «Елена» в Книге 4 из «Одиссея».
так что все, закатывайте своих Гомеров и убирайте их! — Троянская война
было предназначено только для того, чтобы облегчить Мать-Землю тяжелую ношу человечества.Орест
должен сначала уйти в изгнание, но однажды он женится на Гермионе », что означает« Брось
этот меч у вас есть у ее горла, молодой человек, и поздоровайтесь с вашей будущей женой! »-» и
Электра выйдет замуж за Пилада. Все это был мой план. Все будет всем
Сейчас! У богов есть план. Поверьте мне. Они это делают. «
То, что произойдет дальше, — это единственное, что может случиться — Аполлон, в конце концов,
заговорил — дым начинает рассеиваться, персонажи уходят со сцены в
механическое подчинение воле Локсиаса, и пьеса заканчивается божественным обещанием
грядущего мира и радости.Что еще более важно, это также был финал Еврипида.
выезд из Афин и, насколько можно было сказать, из театра тоже. Еще раз
он не взял в руки первый приз, не то чтобы , что имело большое значение на
момент. Его призом было производство Orestes . На первом месте было бы
был разочаровывающим.
E. Вакханки
Как ничто другое, Орест олицетворяет бешеные конвульсии
Афины к концу Пелопоннесской войны.Полный подхалимов и двуручных торговцев,
искривленные умы и беспомощные дураки, пьеса отражает безумие вокруг нее.
«Но кто самый безумный?» — вопрошает пьеса. «Безжалостные преступники
кто кажется единственными людьми, способными действовать? Простой, добрый народ, который
стать жертвами этих преступников? Боги, которые позволили всему этому случиться? » Орест
эта редкая, почти невозможная драма, задушевный фарс, неподражаемый
способ сказать «Только бог может спасти вас, афинян, от беспорядка, который вы устроили
на этот раз, и боги, если — это богов, должны быть даже
сумасшедший, чем ты! »С этими словами Еврипид вскочил в повозку и двинулся прочь.
в Македонию, где он приступил к созданию самых удивительных и драматических
поворот всей его долгой и непредсказуемой карьеры, величайшая пьеса, которую он когда-либо
написал — для многих величайшая пьеса из когда-либо написанных! — Вакханки .
Смерть Еврипида в начале 406 г. до н.э. ознаменовала конец целой эпохи. Когда Софокл
тоже умер всего несколько месяцев спустя, было ясно, что афинская трагедия достигла
кризис. Не было очевидного наследника престола трагической драмы,
и смятение афинян ощутимо в комедии Аристофана, написанной следующим образом:
весна, Лягушки (см. ниже, Чтение
Четыре). Но когда в Афинах сообщили, что три трагедии почти завершены — г.
Вакханки , Ифигения в Авлиде и Алкмеон в Коринфе
(теперь утерян) — были частью имения покойного Еврипида, должно быть
чувство одновременного восторга и тревоги среди своих собратьев-афинян: «Один
еще трилогия от Еврипида! Как чудесно! Но подожди, о чем он скажет
нам на этот раз? Это была последняя драма, которую он поставил в «Дионисии».. ., хорошо,
мы не так хорошо там выглядели, не так ли? Оймой, что теперь? «
Производство
неожиданным, однако, была подпись Еврипида, и поэтому следующий «логичный»
переехать для него после разрушения и высмеивания всевозможных священных традиций, все, от эсхиловской трагедии до нынешнего политического режима, должно было вернуться
к принятым в то время нормам драматургии. Вакханки , как это
Оказалось, было довольно условно, по крайней мере, на первый взгляд.
Он включал в себя полноценный припев с длинными одами, подобными Эсхилу, и имел прямую трактовку.
с Дионисом, номинальным божеством драмы — что может быть более традиционным
в греческом театре, чем это?
к текущей политике. Афиняне, должно быть, были ошеломлены Еврипидом.
сдержанность: «Пьеса о боге экстатического безумия, написанная Еврипидом,
без красных селедок, без Елены-в-Египте, без Елены-на- механе ? Там
должен быть какой-то улов! »И было, конечно — и это было, конечно,
чего никто не ожидал.
Тем не менее, как только это было поставлено, должно было быть сразу очевидно, что
Вакханки — а не Ореста ! — были непревзойденным триумфом Еврипида.
для сцены, шедевр человека, которого было намного легче признать
господин, когда его не было рядом, чтобы услышать, как вы это говорите. Так что, без сомнения, это был хор
панафинейского энтузиазма, который эта последняя еврипидовская трилогия распространила на
сцене в Афинах и принес Еврипиду пятый и последний первый приз на
Дионисия.Что драматург оказался недоступен для комментариев на
время, и он не мог принять награду лично — он был мертв — несомненно, сыграло определенную роль в широкой популярности этого решения.
Таким образом, под аплодисменты он не мог слышать и даже не заботился о интригующем
Долгая и неоднозначная глава в истории театра Еврипида наконец дошла до
конец, по крайней мере, так казалось. Фактически, в следующий раз он снова появится на сцене.
год.Но только один человек в Афинах предвидел это, видение другого рода.
который почти наверняка сидел в театре и смотрел Вакханки
на его премьере в марте 406 года комический поэт Аристофан.
VI. Заключение: наследие классической трагедии
Настоящее поместье, которое Еврипид оставил греческому театру, было не чем иным, как революцией.
в драме — игра, совершенно отличная от той, что доминировала на сцене.
большую часть века, в котором он жил.Подыгрывая сюжету и внезапным изменениям
удачи, добавляя действия и увеличивая скорость, с которой разворачивались сюжеты — в
другими словами, превратив драму в мелодраму — он показал, как сделать
Греческий театр более «театральный». Если бы его сверстники были разделены на
их дети не оценили это изменение. Не были актеры
кто много выиграл от экстремистской тактики Еврипида. Эмоциональная гимнастика
Медеи, собирающейся убить собственных детей, дала артистам шанс засиять
их особый блеск на сцене, конечно, во многих случаях
его пьеса о ней и многие другие его образцы бравурного выступления были
возродился в последующие века.
Неудивительно, что вскоре игроки пьесы начали затмевать драматургов.
после классической эпохи. Действительно, тенденция театра четвертого века была
не ставить новые трагедии, хотя драматурги не оставляли попыток писать
их, но чтобы заново представить и заново изобрести великие драмы классических трагиков,
Чаще всего Еврипид. К сожалению для более поздних греков, другой «Еврипид»
как жаждет Дионис Аристофана в г.
Лягушки , так и не всплыли.Таким образом, эллинистическая публика в основном ходила смотреть
звезды в старой «классике», как в сегодняшней опере, где «боевые кони»
Составленные несколько поколений назад — это главные носители искусства.
Это не означает, что драма не пронизывала постклассическую греческую культуру — это
сделал! — только не оригинальной драмы. В конце концов, Афины, самый питомник
драмы, изменившейся с изменением времени, и еще один конкурс включая
учреждена награда среди актеров, сыгравших в возрождении пьес V века.
в Дионисии.Стоит отметить, что это произошло всего через несколько десятилетий
четвертый век до нашей эры — иногда застой может быть очень быстрым — так что
если можно так выразиться, в конце концов, постклассическая трагическая драма
просто окаменелые. Оставив после себя впечатляющий зубастый скелет,
свирепого вида, но застывшего, форма искусства после Софокла, в конце концов,
больше Tyrannosaurus, чем Oedipus Rex .
Оф
судьба Еврипида была лучше всех.Как и Дракула, он все еще мог быть очень страшным, даже
из могилы, иногда даже в большей степени, чем когда-либо в жизни. А именно, когда
Греция ненадолго уступила военному перевороту в двадцатом веке, новый режим
запретил любое представление Еврипида « Ифигения» в Авлиде , пьесе, прославляющей молодых людей, которые жертвуют своей жизнью ради блага государства.
Какая награда для драматурга — гораздо больше, чем любая победа в
Дионисия! — что его работа считается слишком опасной для постановки
двадцать четыреста лет после его жизни! Шоу, Шекспир и Шепард могут
только мечтать о таком порицании когда-нибудь.Но если бы Еврипид не умер полностью с
его смерть, по большей части заставившая новую греческую трагедию, переложить бремя театральной
новаторство в комедии о младших братьях и сестрах, которая с удивлением справилась с этой задачей.
изящество и энергия, и тем самым проложили путь к новой форме театра, настолько обычной, что она выглядит современно, — комедиям Менандра.
Термины, места, люди и вещи, которые нужно знать Еврипид
Выберите пьесы
Алфавитные пьесы
Мелодрамы
Спасательные пьесы
Елена ( Елена )
Менелай [men-nuh-LAY-us]
«Суровый и неприветливый»
Критяне
Минотавр
Минос [MEE-noss]
Пасифае [pass-siff-FAY-ee]
Orestes (Orestes)Фурии
Аполлон
Электра
Пилады [ПИЛЛ-лух-диез]
Красные сельди
Троянский раб
The Bacchae [BAH-key]
Кадм (см. Текст 2)
Семела [SEM-mull-lee] (см. Чтение 2)
Дионис (см. Чтение 2)
Пенфей [PEN-the-yus] (см. Текст 2)
Агава [э-э-га-путь] (см. Чтение 2)
Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Международная лицензия.
Еврипид | Encyclopedia.com
РОЖДЕННЫЙ: ок. 484 г. до н.э., Саламин, Кипр
УМЕР: 406 г. до н. 424 г. до н. Э.)
Электра (ок. 420–416 до н. Э.)
Ифигения у тавров (ок. 414 г. до н. Э.)
Вакхки (ок.406 г. до н.э.)
Обзор
Из трех поэтов греческой трагедии, чьи произведения сохранились до наших дней, Еврипид — тот, чьи пьесы сохранились в наибольшем количестве (восемнадцать против семи у Эсхила и Софокла). Его пьесы отличаются трагическим пафосом и ловкой игрой идей. В древности, по крайней мере, вскоре после его смерти, около 407 или 406 г. до н. Э., Еврипид был чрезвычайно популярен, и его драмы ставились везде, где существовали театры. Его влияние продолжалось и в более позднюю античность, и в эпоху Возрождения, и далее, формируя французскую, немецкую, итальянскую и английскую литературу вплоть до двадцатого века.
Работы в биографическом и историческом контексте
Привилегированный ребенок Еврипид родился в 484 г. до н. Саламин). Несколько фактов подтверждают предположение, что он был по крайней мере из среднего класса
и означает: ученик Аристотеля вспомнил, что в детстве Еврипиду разрешили участвовать в двух религиозных церемониях, и он, как известно, получил хорошее образование.В то время, когда большая часть литературы передавалась устно, Еврипид якобы обладал обширной библиотекой, содержащей множество философских работ. Его интерес к философии также проявился в его дружбе со многими ведущими мыслителями той эпохи, включая Анаксагора, Сократа и Протагора, который, как говорят, первым прочитал свой подстрекательский трактат О богах в доме Еврипида. Многие читатели пришли к выводу, что злые женщины, изображенные в пьесах Еврипида, представляют его опыт общения с несколькими неверными женами и репрессии против них, но ученые обнаружили доказательства только одного брака, в результате которого родились три сына.
Афинский расцвет Еврипид провел большую часть своей жизни в Афинах, которые пережили один из самых плодотворных и влиятельных периодов его юности и ранней зрелости. Афинская культура, финансируемая серебром из богатых региональных рудников и данью подчиненных союзников, процветала в форме демократического государственного управления, архитектуры, живописи, скульптуры, ораторского искусства, поэзии, истории и трагедии, которые были особой гордостью города. Каждый год афинский архонт, или главный магистрат, выбирал трех драматургов для участия в драматическом фестивале, в то время переходя от религиозной церемонии в честь бога Диониса к более светскому художественному конкурсу
.Каждый драматург поставил тетралогию, состоящую из трех трагедий и более легкой «сатирической» (или сатирической) пьесы; первая премия представляет собой одну из высших наград Афин.
Мир, царивший во времена юности Еврипида, однако, закончился, когда территориальные амбиции Афин разожгли давнее соперничество города со Спартой за то, кто должен быть доминирующей силой в Греции; Эта напряженность, достигшая высшей точки в Пелопоннесской войне (431–404 гг. до н. э.), истощила казну и дух Афин. Хотя известно, что Еврипид написал свою первую тетралогию в 455 г. до н. Э., Сегодня существуют только девятнадцать из девяноста двух еврипидовых пьес, упомянутых в древних комментариях, и все, кроме первой, датируются послевоенным периодом.
Еврипид не пользовался особой популярностью, когда его приглашали писать тетралоги как минимум для двадцати двух дионисийских фестивалей. В то время как его старший конкурент Софокл выиграл около двадцати четырех первых призов, Еврипид получил только четыре или пять, последнее — посмертно. Аристотель и несколько биографов сообщают, что, возмущенный неуважительным обращением Еврипида с бессмертными, архонт Клеон преследовал его за богохульство, но никакие записи не указывают на исход суда. В конце своей карьеры Еврипид стремился покинуть Афины, расстроенный, как предполагают ученые, из-за его относительного неуспеха на драматических фестивалях, продолжающегося опустошения войны и упадка города, связанного с войной.В конце концов он уехал в 408 г. до н. Э. По приглашению македонского царя Архелая, который надеялся создать культурный центр, соперничавший с Афинами. Продолжая сочинять при дворе Архелая, Еврипид работал над Ифигенией в Авлиде , когда он умер там в 406 г. до н. Э.
Произведения в литературном контексте
Еврипид был одним из трех драматургов, чьи произведения отражают динамику афинской мысли на пике классической драмы в городе-государстве в V веке до нашей эры. Еврипид, моложе Эсхила и Софокла, более заметно пострадал от Пелопоннесской войны.Этот ожесточенный и затяжной конфликт положил конец Золотому веку Афин и способствовал возникновению чувства неуверенности, несправедливости и страдания, которое пронизывает еврипидовскую трагедию. На Еврипида также больше повлияла современная философская тенденция к скептическому исследованию, которая ускорила эрозию веры в традиционную религию. Роль богов в его пьесах остается спорной. В то время как некоторые критики признают только то, что Еврипид ставил под сомнение божественную доброжелательность, другие утверждают, что он был агрессивным атеистом, изображавшим жестокость бессмертных, чтобы разжечь религиозное недовольство.
Стилистические и технические модификации Еврипида делают его значительным влиянием на развитие театрального искусства. По-прежнему действуя в рамках структурных условностей, которыми руководствовалась классическая греческая драма, он: адаптировал традиционный припев, пролог и эпилог; упрощенное употребление слов; увеличена представленность женских персонажей; стерло традиционное различие между комедией и трагедией; и утонченный психологический реализм. Известный этими нововведениями, Еврипид, пожалуй, наиболее известен своей трагической чувствительностью — отзывчивой к упадку Афин и природе человеческого положения — что сделало его актуальным для читателей современности.
Женщины-протагонисты Из девятнадцати известных произведений Еврипида восемнадцать являются трагедиями, и все они берут в качестве своего предмета божественные мифы, боевые повествования и благородные семейные истории, которые литературные и религиозные традиции установили в качестве обязательного предмета для изучения. драматурги V века (Эсхил и Софокл часто обращались к одним и тем же материалам).
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ
Среди известных современников Еврипида:
Перикл (495–429 до н.э.): афинский государственный деятель и военачальник, который руководил Золотым веком города и привел его к катастрофической Пелопоннесской войне.
Сократ (469–399 до н. Э.): Философ-классик, считающийся одним из основателей западной философии, его мысли (которые никогда не были записаны при его жизни) напрямую повлияли на работы таких более поздних философов, как Платон и Аристотель.
Софокл (496–406 до н. Э.): Один из трех великих греческих трагиков, наряду с Еврипидом и Эсхилом, Софокл написал по меньшей мере 120 пьес, из которых до наших дней дошли только 7. Он наиболее известен своими пьесами об Эдипе.
Аристофан (456–386 до н. Э.): Еще один из великих драматургов-классиков, Аристофан, специализирующийся на комедии, и по сей день известен как «Отец комедии».
Ксеркс I (годы правления 485–465 гг. До н. Э.): Сын Дария Великого, Ксеркс возглавил свою могущественную Персидскую империю в массовом вторжении в греческие города-государства. После кровавой и дорогостоящей победы при Фермопилах Ксеркс потерпел поражение на море в битве при Саламине. Год спустя его армия потерпела поражение в Платеях, положив начало классической эпохе Древней Греции и господству (и соперничеству) Спарты и Афин.
Среди наиболее известных его проблем — тематическое изображение конфликта между разумом и страстью; последняя сила неизменно преобладает. Эта настойчивость в силе иррациональных эмоций, как утверждают многие критики, представляет собой опровержение Еврипидом утверждения современного философа Сократа о том, что для этого достаточно познать добро. Еврипидова точка зрения особенно очевидна в Медее (431 г. до н. Э.), Одноименная героиня которой мучается перед тем, как наказать своего неверного мужа, убив их детей и ее соперницу: «Я чувствую чудовищность
деяния, которое я собираюсь совершить; но страсть побеждает мою решимость.Это также показано в г. Ипполит (428 г. до н. Э.), В котором Федра борется с божественно индуцированной похотью к своему пасынку: «Мы знаем, что такое добро, и признаем его, но не практикуем его». Эти две драмы также предполагают интерес Еврипида к главным героям женского пола — тогда еще нетрадиционную близость, над которой Аристофан высмеивал в своей комедии Лягушки . В таких пьесах, как « Медея», «Ипполит » и многих других своих известных пьесах, Еврипид сосредоточился на конфликтах и страданиях женщин.
Инновации Еврипида, известного как стилистического новатора, часто хвалят за его психологически реалистичные характеристики. Софокл заметил, что, хотя он сам создавал людей такими, какими они должны быть, Еврипид создавал людей такими, какие они есть. Хотя его персонажи бессмертны и лидеры, Еврипид предложил устойчивые и подробные изображения их борьбы с эмоциями обычных людей. Его изображения Медеи, выбирающей между сохранением своих детей и убийством их, чтобы поразить своего мужа, и Федры, борющейся между честью и похотью к Гипполиту, часто упоминаются как наиболее сложные и вызывающие воспоминания изображения эмоциональной динамики в классической драме.Еврипид также известен тем, что отверг возвышенный язык, который ранее считался подходящим для персонажей знатного происхождения, а его использование простого рабочего языка еще больше повысило доступность его персонажей.
Э. М. Блейклок охарактеризовал Еврипида как «наиболее исторически значимого из греческих драматургов» и во многих отношениях оставил жанр, сильно отличающийся от того, каким он был, когда он его основал. Еврипид ввел новшества, которые привели в IV веке до нашей эры к так называемой Новой комедии, драматической форме, напоминающей современную пьесу гораздо больше, чем произведения Афинского Золотого века.Продолжая секуляризацию драмы, очеловечивая богов, сосредотачиваясь на людях и повышая реализм, Еврипид настолько свободно адаптировал стандартные мифические сюжеты, что полностью изобретенные сюжеты и персонажи стали возможны через столетие после его смерти. Его понижение роли хора из постоянно активного и драматически интегрированного присутствия в группу, которая предлагала менее необходимые наблюдения только между драматическими эпизодами, катализировало возможное исчезновение хора в перерывах между актами.Еврипид также создал прецедент для шекспировской трагикомедии, когда он обеспечил счастливые решения для своих иначе трагических пьес признания.
Наследие В столетие после смерти Еврипида дионисийский фестиваль стал отдавать предпочтение возрождению пьес V века до н.э., а не поиску новых работ у современных драматургов. Ликург, влиятельный афинский оратор и финансист, приказал создать авторитетные тексты для драм Эсхила, Софокла и Еврипида.Однако ученые полагают, что полученные в результате коллекции Еврипида стали более коррумпированными, чем коллекции Эсхила и Софокла, потому что пьесы Еврипида в последующие столетия исполнялись чаще и шире, что увеличивало вероятность интерпретаций актеров.
После упадка Греции в четвертом веке до нашей эры работы Еврипида стали популярными в Александрии, североафриканском городе, который сменил Афины как центр эллинистической культуры в дохристианскую эпоху.Коллекционеры александрийских книг также установили стандартный текст; эта версия использовалась в школах и грамматиками. Из Александрии еврипидовые рукописи были переданы в Рим, а из Рима — в Византийскую империю, где пьесы часто возрождались. Классик А. Кирхгоф считает, что девятнадцать пьес, известных в двадцатом веке, происходят из коллекции, созданной в византийский период, в девятом или десятом веке. Кирхгоф утверждает, что все наши самые старые надежные рукописи произведений Еврипида были скопированы с этого документа.
Работы в критическом контексте
Древние критические отклики Принятие Еврипида в Древней Греции определяется как количеством, так и характером классических ссылок на него. Ученые предполагают, что Аристофан вложил столько шуток о Еврипиде в свои комедии только потому, что аудитория была достаточно знакома с темами Еврипида, чтобы оценить их. Аристофан чаще всего обвинял Еврипида в женоненавистничестве, потому что его героини часто были мстительными, хотя он также высмеивал темы Еврипида как болезненные, а его речи как мелодраматические.
ОБЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ
Еврипида Медея рассказывает об ужасной мести, совершенной женщиной, чей муж оставил ее. Вот и другие произведения, рассказывающие истории о презираемых женщинах:
Кузен Бетт (1846), роман Оноре де Бальзака. Бетт, «бедная родственница», прибегает к помощи проститутки, чтобы разрушить состояние своих состоятельных родственников.
Ярмарка тщеславия (1847–1848), роман Уильяма Мейкписа Теккерея. Грозная героиня романа Бекки Шарп использует свою красоту, ум и остроумие, чтобы пробиться в высшее европейское общество.
Клуб первых жен (1996), фильм режиссера Хью Уилсона. В этой комедии трое разведенных мужчин среднего возраста жаждут мести своим первым мужьям.
Софокл, который высоко оценил реалистичность описания Еврипида и приказал, чтобы все участники Дионисийского фестиваля после его смерти надели траурные одежды, уважали его младшего соперника, а надпись на афинском памятнике предполагает, что ее автор, якобы известный историк Фукидид, действовал. а также: «Его кости лежат в
Македонии, где он / Кончил свою жизнь.Его могила? Вся Эллада. / Афины его родина. Его муза доставляла радость / Многим: многие хвалят его ». Аристотель критиковал вялые и нелинейные сюжеты Еврипида, но все же считал его «самым трагическим из поэтов».
Критические отклики с четырнадцатого по девятнадцатый век Итальянский поэт четырнадцатого века Данте Алигьери упоминает Еврипида — но не Эсхила или Софокла — в Божественной комедии . В целом, большее количество упоминаний Еврипида в научных и популярных трудах Средневековья и Возрождения указывает на то, что его работы были более известны, чем работы его современников.Французский неоклассический драматург семнадцатого века Жан Расин, называющий себя «учеником» Еврипида, основывал свои Andromaque, Iphigenie и Phedre на еврипидовых произведениях, а его английский современник Джон Мильтон восхищался «печальным поэтом Электры», в том числе плач по образцу Еврипида в его Samson Agonistes .
В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков классики начали распознавать корни давно известной латинской литературы в греческих произведениях, которые ранее не изучались и не переводились.Придя к пониманию характеристик классической греческой трагедии, представленных в трудах Эсхилова и Софокла, ученые критиковали собрание сочинений Еврипида как нечистое и низкое, потому что оно изменяло устоявшиеся трагические условности. Им больше восхищались в романтический период. Немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете защищал его как «возвышенного» и пытался восстановить утраченную пьесу Phaethon ; ученый Людвиг Тик описал свою работу как открытие романтической поэзии.
Современные критические ответы Современные критики, более склонные воспринимать эксперименты Еврипида как новаторские, прокомментировали комические аспекты его поздних пьес и мистицизм, присущий его трагическому чутью.Китто, один из самых влиятельных классиков двадцатого века, утверждает, что все фрагментарные и нелогичные компоненты еврипидовой драмы способствуют его изображению безлично жестокой космической силы, которая может нанести ей разрушение посредством необоснованной человеческой страсти.
Критик Ф.Л. Лукас считает, что он изобрел «дискуссионную пьесу», разновидность драмы, позже популяризированную Вольтером, Хенриком Ибсеном и Джорджем Бернардом Шоу, и прослеживает несколько стандартных персонажей, включая наперсницу, призрак и мученик. девственница ему.Как отмечает автор Ричмонд Латтимор, «Еврипид работал в среде, которая не была изобретена им самим или полностью по его собственному выбору, но он сделал ее своей собственной». Эта всеобъемлющая адаптация в сочетании с трагической чувствительностью, пережившей упадок Афин, и правдой о человеческих условиях сохраняла актуальность Еврипида для драматургов и их зрителей на протяжении более двух тысяч лет.
Ответы на литературу
- И Medea , и Electra содержат сильно написанные женские персонажи.Сравните двух женщин и их поведение. Как каждый персонаж выражает свою силу? Чем они похожи? Насколько они разные?
- Еврипида, похоже, больше всего интересовали его персонажи и их развитие, часто в ущерб его сюжетам. Выберите одну из его пьес. Как бы вы изменили сюжет, чтобы усилить его или сделать концовку более удовлетворительной?
- Вы можете вспомнить какие-нибудь современные ситуации, которые отражают обстоятельства Медеи? Напишите о недавнем случае, когда ревнивый супруг отомстил неверному партнеру.Сравните действия современного супруга и его последствия с действиями Медеи.
- Выберите пьесу Еврипида и проанализируйте «действие падения» — дугу, через которую падает обреченная трагическая фигура. Кем они были в начале спектакля и когда началось их падение? Как быстро все развалилось для персонажа?
- Классические греческие театры создавались по очень особым правилам и традициям. Изучите строительство древних театров и то, как их планировка повлияет на постановку пьес, таких как пьесы Еврипида.
БИБЛИОГРАФИЯ
Книги
Барлоу С.А. Образы Еврипида . Лондон: Дакворт, 1971.
Латтимор, Р. Образцы рассказов в греческой трагедии . Анн-Арбор: Издательство Мичиганского университета, 1964.
Вебстер, Т. Б. Л. Трагедии Еврипида . Лондон: Метуэн, 1967.
Whitman, C. Еврипид и миф полного круга . Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета, 1974.
Winnington-Ingram, R.С. Еврипид и Дионис . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1948.
Zuntz, G. Политические пьесы Еврипида . Манчестер, Великобритания: University Press, 1955.
Официальный сайт Alley Theater — Об авторе
Еврипид: Об авторе
Лора Морено
Еврипид
Еврипид (ок. 484 г. до н.э. — 406 г. до н.э.) был драматургом и поэтом и считается одним из великих драматургов Древней Греции, наряду с Эсхилом и Софоклом.Он известен многими написанными им трагедиями, в том числе Медея, Вакханки, Ипполит, Алкестида и Троянские женщины .
О жизни Еврипида известно очень мало. Он жил в то время, когда история записывалась спорадически и часто задолго до того. Исторические сочинения в Древней Греции часто больше сосредотачивались на великих событиях, чем на повседневной жизни человека. Историки выяснили, что Еврипид родился в Афинах примерно в 484 году до нашей эры. Считается, что он происходил из зажиточной семьи, что позволило ему посвятить жизнь писательству.Сообщается, что он был женат на женщине по имени Мелито, и у них было трое сыновей.
Еврипид считается одним из самых известных и влиятельных драматургов классической греческой культуры. Из 90 его пьес сохранились 19. Как и все крупные драматурги своего времени, он участвовал в ежегодных афинских драматических фестивалях, проводимых в честь бога Диониса. Он впервые участвовал в фестивале в 455 г. до н.э. и одержал первую из своих четырех побед в 441 г.
Его самые известные трагедии переосмысливают греческие мифы и известны тем, что исследуют темную сторону человеческой натуры, часто изменяя элементы мифов или изображая более несовершенные человеческие стороны их героев и богов.В его пьесах присутствовали сюжетные элементы страдания, мести и безумия. Персонажи часто движимы сильными страстями и сильными эмоциями. Еврипид часто использовал сюжетный прием, известный как «deus ex machina», когда бог прибывает или посылает решение ближе к концу пьесы, чтобы свести счеты и обеспечить разрешение сюжета. Некоторые работы Еврипида содержали косвенные комментарии к текущим событиям. Например, книга «Троянские женщины» , изображающая человеческую цену войны, была написана во время Пелопоннесской войны (431-404 г. до н.э.).Еврипид также иногда использовал сатиру и комедию в своих пьесах, и он часто писал дебаты для своих персонажей, в которых они обсуждали философские идеи. По всем этим причинам он был известен как реалист и один из самых интеллектуальных трагиков. Его противоречивые произведения привели к тому, что он стал постоянным объектом шуток комедийного драматурга Аристофана, который карикатурно изобразил его в сатире Лягушках и в других пьесах.
Ближе к концу своей жизни царь Македонии пригласил Еврипида жить и писать там, и он так и не вернулся в Афины.Он умер в Македонии в 406 году до нашей эры. Из-за его высокого статуса в греческой литературе его пьесы сохранились в рукописях, которые копировались и переписывались на протяжении веков. Его работы окажут влияние на более поздних писателей, таких как Джон Мильтон, Уильям Моррис и Т.С. Элиот. Многие пьесы Еврипида до сих пор адаптированы и поставлены — особенно Медея, Вакханки, и Троянские женщины.
Та, где Медея спасает своих детей: утерянные классики греческой трагедии | Театр
Подумайте о греческой трагедии, и мы склонны думать о печальных историях о смерти королей.Или, если не их смерть, то, по крайней мере, их возмездие: Агамемнон убит своей женой в ванной; Аякс обезумел и стал кровожадным богами; Эдип ослеплен собственной рукой; Ясон уничтожен после того, как его жена Медея убила своих детей.
Но сохранились только 32 полные пьесы, написанные всего тремя драматургами — из сотен, а может быть, и тысячи текстов примерно 80 авторов. И, согласно Мэтью Райту, профессору греческого языка в Университете Эксетера, имеющиеся у нас произведения Эсхила, Софокла и Еврипида не обязательно являются лучшими пьесами своего времени и не являются особенно репрезентативными.Он считает, что некоторые из этих утерянных работ, вероятно, были шедеврами: «Нет никаких доказательств того, что качество сыграло роль в передаче сохранившихся текстов».
По одной из версий, Медея была своего рода опытным личным тренером, который «брал на себя слабых и немощных людей»
Согласно его тщательному изучению оставшихся фрагментов, цитат и описаний, утерянных текстов пятой и четвертой частей. в. до н.э. афинские пьесы демонстрируют гораздо более широкий диапазон сюжетов и тонов, чем те, которые сохранились до наших дней, с рассказами, охватывающими инцест, секс, любовь, магию — и счастливый конец.Если бы выживало больше, у нас было бы «радикально иное» понимание природы греческой трагедии как жанра.
Любимая пьеса Александра Великого, например, была явно веселой: в потерянной Андромеде Еврипида, рассказывающей историю спасения героини от смерти героем Персеем, они женятся. Другая пьеса Еврипида, Протесилай, о первом герое, погибшем в Троянской войне, повествует о том, что мертвого человека на день вернули к жизни, потому что его жена так его любила.
Утерянный Эсхил В основе мирмидонцев лежала сексуальная и романтическая любовь между Ахиллом и Патроклом. Физические отношения между двумя героями Троянской войны не описаны в главном источнике истории, Гомеровской Илиаде.
Что, если бы Эдип не ослепил себя? Рэйф Файнс в постановке Национального театра 2008 года. Фотография: Тристрам Кентон для Guardian
Фрагменты, которые Райт изучил и проанализировал в своей новой книге «Утраченные пьесы греческой трагедии», показывают, что рассказы, которые теперь часто считаются каноническими мифами, часто были очень изобретательными в отношении основных сюжетных линий — и что не было «Аутентичная» версия рассказа, скажем, об Эдипе.
«В своей книге я пытаюсь дать представление о котле историй и мифов, на который опирались трагедии», — сказал он. «Они использовали одни и те же базовые истории, но переделывали и переписывали их совершенно по-разному, чтобы зрители никогда не знали, что они получат … версия мифов ».
Например, Райт считает, что он идентифицировал «около 19 трагедий» с участием героини Медеи, которая в единственной сохранившейся пьесе Еврипида о ней мстит своему неверному мужу, убивая их детей.В версии драматурга Карцина, с другой стороны, она отсылает детей на хранение, а Диоген из Синопа в четвертом веке, наиболее известный как основатель школы цинической философии, написал версию, в которой ее роль как колдунья была преуменьшена. Напротив, она была своего рода личным тренером, который «брал за слабых и немощных людей, тела которых были разрушены чрезмерным увлечением, и она снова делала их сильными и энергичными с помощью гимнастических упражнений и паровых бань», согласно резюме византийского антолога. , Иоанн Стобийский.
Диоген был также автором шокирующего текста, осужденного древними критиками, об Эдипе, в котором — в отличие от сохранившейся версии истории Софокла — защищались инцест и отцеубийство. Еврипид также написал пьесу об Эдипе, в которой герой не ослеплял себя и, судя по отрывкам и фрагментам, изученным Райтом, «поставил эротические отношения между Эдипом и его женой Иокастой в центр сюжета».
Слева направо: Люк Томпсон, Лиа Уильямс, Энни Фэйрбэнк и Джессика Браун Финдли в постановке Эсхила «Орестея» в 2015 году. Фотография: Тристрам Кентон для Хранителя. персонаж как в философском диалоге Платона «Симпозиум», так и в комедии Аристофана «Фесмофориазузы».Остались тридцать четыре фрагмента его работ, которые, по словам Райта, передают «остроумие Уайлда — они такие красивые, такие элегантные и такие эпиграмматические». (На самом деле он подозревает Оскара Уайльда, изучавшего классику, в том, что он читал отрывки из Агафона — он определенно восхищался им, описывая его как «этого блестящего литератора и модного человека в самый остроумный период общественной жизни Аттика».)
Рассеивание корпуса греческой трагедии, сказал Райт, началось в Афинах четвертого века, когда политик Ликург объявил Эсхила, Софокла и Еврипида «официальными» трагиками города-государства с фиксированными текстами, хранящимися в городских архивах. и статуи мужчин, установленные в театре.
Тем не менее, других драматургов читали и ценили в древности, но в византийский период несколько пьес большой тройки писателей стали доминирующими, возможно, выбранными для использования в образовательных целях — и, возможно, с учетом того факта, что то, что сохранилось сейчас «На назидательные темы и без изворотливого секса».

 драматургов 7 букв
драматургов 7 букв
 э., ‘Медея’, ‘Алкестида’, ‘Ипполит’)
э., ‘Медея’, ‘Алкестида’, ‘Ипполит’)